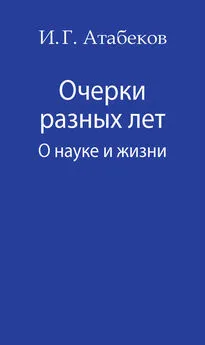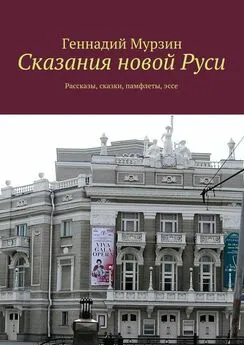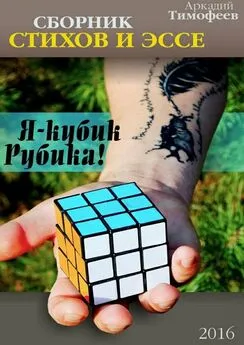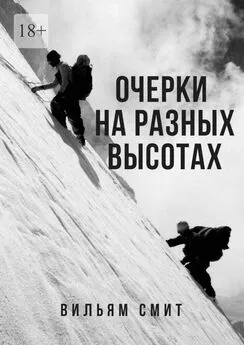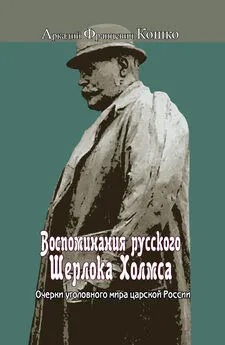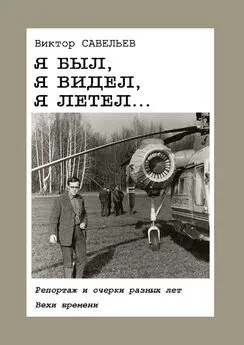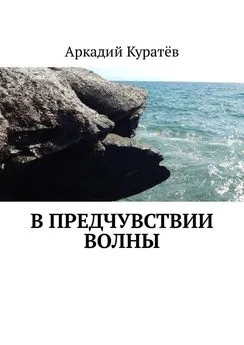Аркадий Красильщиков - Рассказы о русском Израиле: Эссе и очерки разных лет
- Название:Рассказы о русском Израиле: Эссе и очерки разных лет
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Гешарим»862f82a0-cd14-11e2-b841-002590591ed2
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-93273-338-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Аркадий Красильщиков - Рассказы о русском Израиле: Эссе и очерки разных лет краткое содержание
Почти каждый из рассказов тянет на сюжет полнометражного фильма. Так появились на свет первые сборники моих опытов в прозе. Теперь перед тобой, читатель, другие истории: новые и старые, по каким-то причинам не вошедшие в другие книжки. Чем написаны эти истории? Скорее всего, инстинктом самосохранения. Как во времена доброй старой прозы, автор пытался создать мир, в котором можно выжить, и заселил его людьми, с которыми не страшно жить.
Рассказы о русском Израиле: Эссе и очерки разных лет - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Зима. Вот я подростком иду трудиться на металлический завод в толпе работяг. Сразу за проходной – колючий, холодный ветер. Такой сильный, что тяну вниз за мерзлые тесемки уши треуха. Сумрачно. Впереди и позади темные, сгорбленные, торопливые тени рабочих. До моего инструментального цеха метров триста. Там, сразу за тяжелой железной дверью, горячее тепло кузни: такое родное и желанное.
Переступаю высокий порог – и попадаю в этот грохочущий, воняющий окалиной рай… И я счастлив! Счастлив по-настоящему. Как там у Бродского: «…это было колоссальное ощущение!»
Весна, больничный двор. Впервые выпускают меня одного – в парк, к солнцу. Устав от десяти шагов, сажусь на скамейку и вижу воробья, лихо принимающего ванну в луже. Смотрю на птицу эту и счастлив необыкновенно.
Еще раньше, в детстве: просыпаюсь рано, совсем рано. Внизу, за открытыми форточками двойных рам, метет булыжники двора-колодца жесткой метлой дворник Ахмет. И я вдруг чувствую такое счастье, такой покой, такую силу и в душе и теле, что, кажется, сама земля теряет надо мной власть и больше не будет никогда проклятого земного тяготения.
С тех пор как будто ни разу не просыпался позже шести часов. Вполне возможно, все жду того шума метлы и ощущения счастья.
Стихи-шифры, Ахматова, Оден, Фрост, Шестов, Бердяев, индуизм, кальвинизм, иудаизм – все это было в Бродском. Он без устали «умножал знания, умножая скорбь».
Лауреат Нобелевской премии, написал много хороших, мудрых, гениальных стихотворений и эссе, но я знаю только одно стихотворение поэта, написанное счастливым человеком. Счастливое стихотворение. Вот оно:
А. Буров – тракторист – и я,
сельскохозяйственный рабочий Бродский,
мы сеяли озимые – шесть га.
Я созерцал лесистые края
и небо с реактивною полоской,
и мой сапог касался рычага.
Топорщилось зерно под бороной,
и двигатель окрестность оглашал.
Пилот меж туч закручивал свой почерк.
Лицом в поля, к движению спиной,
я сеялку собою украшал,
припудренный землицею как Моцарт.
Мог бы разобрать это стихотворение «по косточкам». Наговорить «короб» о его космизме, о живописи, музыке… В конце концов, о мастерском кинематографическом монтаже. Только нужно ли это делать: анатомировать счастье?
Вот на том поле, не в Питере и Венеции, а там, где некогда поэт сеял озимые в мерзлую, скупую землю, и надо бы поставить памятник поэту Иосифу Бродскому. Какой? Не знаю. Это дело скульптора. Передо мной фотография поэта того периода. Он в ватнике и наверняка в кирзовых сапогах. Не исключено, впрочем, что и в резиновых. Сам Бродский писал о ссылке: вокруг одна «злая мошка и болота».
Болота, злая мошка и счастливый поэт, «припудренный землицею как Моцарт».
2004 г.Нос Гоголя
Как-то неловко стало, когда поставил рядом эти две фамилии: свою и великого писателя. Оговорюсь сразу, несмотря на очевидные провалы нравственного чувства классика, считаю Гоголя – талантом огромной величины. Может быть, по масштабам гениальности первейшего в современной истории литературы.
Скажу без фальшивой скромности, что понимаю, как делали свои вещи Бальзак и Пушкин, Достоевский и Толстой, Чехов или Диккенс… Но не могу постигнуть тайну волшебной прозы Гоголя. Ее сатанинскую и Божественную силу. Не могу отличить свет от мрака в душе этого человека. Я бессилен перед Николаем Васильевичем Гоголем. Бессилен, и всегда умираю от тайной и необоримой зависти, когда читаю сочинения этого удивительного писателя, носившего странную, нездешнюю фамилию – кличку Гоголь.
Антисемитом он был, тут спорить не приходится. Однако, и без особых проблем, могу представить себя рядом с этим долгоносым и лохматым юдофобом где-нибудь в Риме, в кафе, у арки проклятого Тита, разрушившего наш Храм в Иерусалиме.
– Послушай, – говорю Гоголю. – Как ты мог?.. Ты, человек веры и традиций. Человек, помнящий, кто дал твоему народу веру, как ты посмел опоганить великий народ, сравнить еврея с мерзким насекомым. Раздавить его еще раз каблуком в ходе погрома убийц из бандитского воинства Тараса Бульбы? Добрейший и несчастнейший из человекообразных, как ты мог?
В ответ он начнет бормотать что-то невнятное в свое оправдание. А потом вдруг скажет отчетливо, досадливо теребя кончик носа.
– Ну не люблю я их… Так я и себя не люблю и род свой, что тут поделаешь?
С Гоголем могу представить такой разговор. С Достоевским, к примеру, или с его жутким близнецом Розановым, или с почившим недавно Солженицыным, – не могу представить. Там все ясно. И говорить как будто не о чем.
Есть еще некая странность: удивительное одиночество Гоголя в русской литературе. Казалось, не любил он евреев, был ярко выраженным национал-патриотом, а не жаловали его российские жидобои и державники. Никогда не могли простить ему мертвые души одного названия великой поэмы.
Либерал и революционер Белинский учил Гоголя, как нужно относиться к «свинцовым мерзостям» самодержавия. Пройдет век с лишним, и защитники этих «свинцовых мерзостей» начнут порицать Гоголя за его нелюбовь к великому русскому народу.
Казалось бы, не было писателя столь близкого к национальному духу великороссов; писателя, работавшего, в отличие от иных отечественных классиков, вне библейской традиции; гения, предельно близкого к еретической, бунтарской, языческой природе православного человека, а не любили русские словесники-патриоты Николая Васильевича.
Вот и на отечественный экран перенесли Гоголя ненавидимые им евреи: Михаил Швейцер и Ролан Быков. И с каким блеском проникновения и душевной боли сделали они это, простив, надо думать, писателю его бесспорный грех юдофобии.
Да и язык Гоголя настолько народен по своему духу, что писатель этот практически непереводим. Не звучит он на немецком, английском или французском языках. Нет в европейской речи, за исключением, пожалуй, чуда фантазий Гофмана, даже намека на музыку и ритмы прозы Гоголя.
Что еще странно: любил Гоголь Европу. Где только не работал над своими шедеврами: в Швейцарии, Италии, Франции, Германии, а не смог угодить этим странам своим пером.
С жанром его вещей опять же проблема. Не писал Гоголь прозу, но и стихов никогда не писал. Понимая это, назвал Николай Васильевич свой великий роман поэмой. Да что толку. Вне жанра работал этот человек. Красну девицу модной романтики он ломал прекрасным уродством абсурда, динамику повествования безжалостно тормозил статикой картин, слезу сантимента тут же вытирал жесткой тканью насмешки… В общем, Гоголь – это Гоголь, и больше никто.
Сам же я, ясно сознавая, что подражать Гоголю совершенно невозможно, всегда пытался идти в своем скромном писательстве именно за ним. Тогда же, когда чувствовал утрату планки над головой и терял ориентиры, брал томик Гоголя, читал его тексты и успокаивался, определив точное место и время своему сомнительному дару.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: