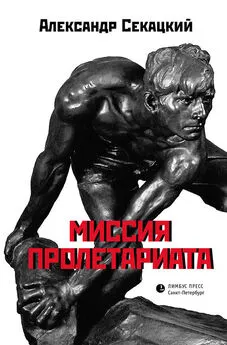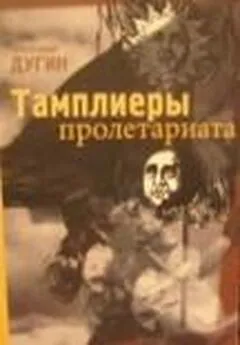Александр Секацкий - Миссия пролетариата
- Название:Миссия пролетариата
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство К.Тублина («Лимбус Пресс»)a95f7158-2489-102b-9d2a-1f07c3bd69d8
- Год:2016
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-8370-0714-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Секацкий - Миссия пролетариата краткое содержание
В новой книге Александра Секацкого «Миссия пролетариата» представлена краткая версия обновленного марксизма, которая, как выясняется, неплохо работает и сегодня. Материалистическое понимание истории не утратило своей притягательности и эвристической силы, если под ним иметь в виду осуществленную полноту человеческого бытия в противовес голой теории, сколь бы изощренной она ни была. Автор объясняет, почему исторически восходящие силы рано или поздно теряют свой позитивный обновляющий настрой и становятся господствующим классом, а также почему революция – это коллективная нирвана пролетариата.
Яркая и парадоксальная, эта книга адресована не только специалистам, но и всем заинтересованным читателям.
Миссия пролетариата - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А с точки зрения христианства – еще об одной великой попытке сделать последних первыми. И дать слово малым сим. Причем устройство нового революционного языка оказалось пригодным уже не для кротости и стойкости, а для гнева и классовой решимости: благодаря языку mass media истина вновь прозвучала устами отвергнутых, и на этот раз она была истиной революции и целостного праксиса. Шершавый язык плаката, а также листовки, лозунга и транспаранта на какое-то время совпал с максимальной степенью единства мысли и действия, прежде чем и его коснулись силы спонтанной и преднамеренной фальсификации и vis inertia, неизбежный с точки зрения Ницше удел всех установлений слишком человеческого [113]. Попробуем рассмотреть в метафизическом ключе вопрос «что это было?», опираясь на перекличку указанных подходов и тематизаций, ориентируясь на Великую Октябрьскую революцию и ее исторические окрестности.
Но для этого следует сначала кратко подытожить, что уже произошло с медиасредой и обществом к этому времени.
Говоря кратко, появление газет и их удержание в качестве медиатора социальности вызвало невиданную прежде гомогенизацию общества. Благодаря газетам возник коммуникативный контур столь же универсального, всеобщего характера, как и общение по поводу логоса, озарившее когда-то античную Грецию, вытеснившее соответственно матрицы родства и профессионально-именного кодирования [114]. Матрица логоса в своей высшей ипостаси после необходимых модификаций и обрела форму науки. Матрица СМИ тоже обрела свою территориальность, которая и по сей день далеко еще не устоялась и находится в процессе экспансии. Помимо прочего, она предстает и как группировка знаний, основанных на иных принципах, нежели наука, но все же способная удерживать и суммировать знания, которые с точки зрения науки являются скорее сведениями, чем собственно знаниями. Уже в середине прошлого столетия стало ясно, что скорость возрастания медиаархива не уступает скорости роста тезауруса науки – да и сфера его применимости впечатляет. Просто медиаматрица в качестве коммуникативного контура основана не на взаимном обмене принципами и пропозициями, а на обмене новостями. То есть основание для следующего акта коммуникации (публикации) это не очередной шаг к постижению первоначал, а просто новость, минимальное дискретное изменение, достойное обсуждения. Наука (матрица логоса) и матрица СМИ имеют общее поле фактов, но фактов, совершенно по-разному компонуемых в более крупные единицы, скажем, научная конференция с одной стороны, и свежий выпуск газеты с другой. Но не это нас сейчас интересует.
Вспомним, за счет чего долгое время осуществлялась гомогенизация дискурса, а вслед за ней и гомогенизация общества: за счет равноудаленности субъектов коммуникации от плоскости газетного листа. Каждый профессионал считал, что знания и интересы Другого представлены более или менее адекватно, а вот его собственные знания искажены до неузнаваемости. Такое положение вещей было характерно и для «внутрибуржуазных» сословий, так что язык СМИ оставался неким неизбежным арго, но не языком внятного классового сознания и самосознания.
Рано или поздно такое положение вещей должно было (или, по крайней мере, могло) измениться, что и произошло по мере восхождения пролетариата к своей миссии.
Когда Маркс и его последователи описывали сущностные характеристики пролетариата, его обездоленность и принципиальную лишенность корней (но также и отягощений) – национальных, профессиональных, конфессиональных, – его готовность к походу и легкость на подъем, бесстрашие в деле исторического проективизма и, следовательно, решающую роль в истории, как-то незамеченным осталось еще одно сущностное обстоятельство: обретение родной речи, аппроприация собственного языка из варварских наречий уличной журналистики. С этим следует разобраться.
Вот Европа первой половины XIX века, среди всякой разнородной событийности непременно бросятся в глаза манифесты, резолюции, стачки, съезды, Маркс, устремляющийся в «Новую Рейнскую газету», вообще в массовую прессу, куда уже проторили дорожку братья Бауэры и другие младогегельянцы, уходящие от изысканного эзотерического языка немецкой классической философии. События европейской революции 1848 года в этом отношении можно назвать прологом к тому, что произошло в России в начале XX века, когда из маргинальных наречий, из разбросанных, спонтанно возникающих повсюду социограмматических форм консолидируется нечто внятное и действенное – воистину новая речь. Вдруг перестала «корчиться улица безъязыкая» (В. Маяковский), она заговорила, и ее услышали. Как если бы и впрямь свершилось евангельское чудо и пребывающие в духе «заговорили на языках».
Здесь и в самом деле есть и до сих пор есть нечто от чуда, особенно если не слишком концентрироваться на промежуточных процессах, непременно бросающихся в глаза. Если мы переместимся сразу в Петроград, в октябрь 1917-го и задержимся там хотя бы несколько дней, многоречивость улицы, конечно же, сразу же бросится в глаза. Лозунги, транспаранты, заголовки: «Вся власть Советам!» (или Учредительному собранию), «Мир народам!», «Да здравствует свободный труд!» и так далее и тому подобное. Не только Ленин писал свои «Апрельские тезисы», разного рода тезисы, лозунги, призывы стали основной духовной продукцией всех левых политиков того времени. И это свидетельствовало о необходимости разговаривать с рабочим классом на понятном ему языке, но свидетельствовало также и о том, что язык этот не был больше мертвым или иностранным как язык канонического богослужения, на нем и в нем общество определяло теперь свои насущные задачи, на нем и принимало решения. Следующие два-три года этот политический, экономический и социальный язык только расширял свой ареал и наращивал глубину проникновения, и при всех источниках и составных частях это был впечатляющий триумф медиасреды.
Стоит заметить, что ничего подобного не знала, например, российская революционно-демократическая интеллигенция XIX века. Все они, от Белинского до Чернышевского и даже до Плеханова, чрезвычайно активно пользовались журналистикой, но на свой лад, упорно вливая старое вино в новые мехи. По сути, в России журналистика была экспроприирована литераторами и в интересах литературоцентризма; не случайно вплоть до девяностых годов XIX века суммарный тираж журналов в России превышал совокупный тираж газет [115]; листовки и прокламации народовольцев были характерным исключением.
Вообще получается любопытная картина: если говорить о статусе публичных надписей, то XIX век был все еще ближе к Средневековью, чем к улицам, площадям и майданам века следующего. Так, в 1919 году в Петрограде (да, впрочем, и в Берлине) во время многочисленных демонстраций и акций по улицам несли различные транспаранты, лозунги, и всюду, куда ни бросишь взгляд, виднелись надписи, надписи и надписи, шла живая, трепещущая на ветру газета. Вспомним роман Бориса Пильняка «Голодный год», где вывеска «КОММУТАТОРЫ. АККУМУЛЯТОРЫ» прочитывалась теми, кто не успевал за новыми веяниями, как «кому таторы, а кому ляторы». Понятна степень писательской иронии по отношению к этому внезапному, варварскому, почти иностранному языку, но очевидно и то, что аборигены революции, восставшие пролетарии, нисколько не затруднялись с пониманием подобных «речевок». Улица стала мобильной газетой, таково было требование времени, но и само время выстраивалось по требованию ускоряющей его речи.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: