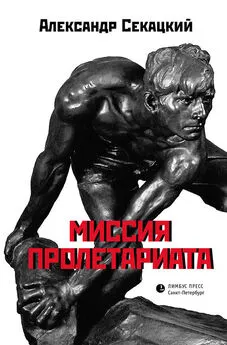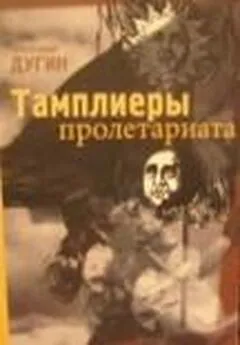Александр Секацкий - Миссия пролетариата
- Название:Миссия пролетариата
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство К.Тублина («Лимбус Пресс»)a95f7158-2489-102b-9d2a-1f07c3bd69d8
- Год:2016
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-8370-0714-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Секацкий - Миссия пролетариата краткое содержание
В новой книге Александра Секацкого «Миссия пролетариата» представлена краткая версия обновленного марксизма, которая, как выясняется, неплохо работает и сегодня. Материалистическое понимание истории не утратило своей притягательности и эвристической силы, если под ним иметь в виду осуществленную полноту человеческого бытия в противовес голой теории, сколь бы изощренной она ни была. Автор объясняет, почему исторически восходящие силы рано или поздно теряют свой позитивный обновляющий настрой и становятся господствующим классом, а также почему революция – это коллективная нирвана пролетариата.
Яркая и парадоксальная, эта книга адресована не только специалистам, но и всем заинтересованным читателям.
Миссия пролетариата - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Органика двойного назначения есть общий коррелят или универсальный сенсориум всех потоков производства человеческого в человеке, всех семиозисов, равно – порядковых мышлению с точки зрения гарантий воспроизводства субъектности. Ревновать, верить, рисковать, мыслить – каждый из этих модусов человеческого автономен в своем предъявлении-к-проживанию, и каждый в несобственном виде включает в себя остальные модусы. Скажем, «мыслимое» присутствует и в ипостаси ревности ревнующего, но, разумеется, в несобственном виде. Спрашивается: как что? Сам вопрос «как что?», впрочем, предполагает характер предметности, который дан отнюдь не всегда, поэтому лучше все же спросить «каким образом?». Напрашивается ответ «как подозрение», но скорее подозрение есть контрабандный способ общего шпионологического присутствия во многих, если не во всех семиозисах. Подозрение дает направление умозрению, а может быть, и зрению вообще; «подозрительный дискурс» в значительной мере тождественен со всяким человеческим семиозисом. Но присмотримся, например, к «поиску доказательств» – это, несомненно, превращенная форма мыслимого, рефлексивного начала в составе ревности, как, впрочем, и веры. Ревнующий ищет доказательств, можно сказать, ревностно ищет, но находимые доказательства ничего не доказывают, чаще всего они оказываются знаками смены тональности в общей мелодии ревности. Здесь как доказательство ничего не доказывает, так и опровержение ничего не опровергает, точнее говоря, соответствующая им способность всецело зависит от фазы аффекта, предъявленного к проживанию. Речь, таким образом, идет о квазиверификации, представляющей собой форму иноприсутствия познавательной способности – наряду с другими вкраплениями несобственного. И в этом отношении семиозис мыслимого, сфера рефлексии, безусловно, отличается от прочих. Отличается тем, что иное есть вообще ее предмет. Призвание познания в том и состоит, чтобы делать иное своим, и это призвание к специфическому присвоению торжествует еще и потому, что мир, встреч – ное сущее, оказывает минимальное сопротивление такому вторжению-проникновению: тем самым интенции сходятся и умопостигаемость мира образуется за счет схождения на встречных курсах двух противоположно направленных интенций.
Делать своим иное, обретать путем присвоения, но таким образом, что присвоенное, становясь мыслимым, сохраняет характер иного, того, что не только есть теперь свое, мыслимое, но есть и для мысли, так что никакая степень обдуманности не устраняет привилегированной принадлежности к встречному сущему (что как раз и называется объективностью), – вот что значит мыслить. В стихии мыслимого по идее вообще не должно быть никакого несобственного присутствия в качестве предмета: всякое иное, остановленное в своей противопоставленности, уже и есть предмет для мысли, то есть свое для рефлексии – при этом несобственное присутствует, конечно, в семиозисе, в процессуальности мышления, но не как предмет, а как гравитация, влияние, которое может быть обусловлено как полнотой праксиса (подобный род влияний исследован марксизмом прежде всего как идеология), так и отдельным близлежащим семиозисом, например экономикой, либидо, свободой воли как регистрационными позывными «я»-присутствия. О таких влияниях принято говорить, что они «замаскированы», что означает лишь то, что они не устраняют характера объективности, более того, всякое сомнение в принадлежности конструкций мыслимого к иному, немыслимому и внемыслимому миру, рассматривается как произвол, как несомненный дефект мысли, дискредитирующий ее в качестве мысли, – разительное отличие от прочих семиозисов, включая веру.
На данном обстоятельстве следует остановиться подробнее. Важно отметить, что все же некоторые предметы и предметные области, а именно самые важные для человеческого существа, остаются несобственными и даже абсурдными в рамках согласованного мышления, в имманентной стихии мыслимого: жертвоприношение Авраама, непорочное зачатие Девы и, конечно, евхаристия Господня. Изнутри опыта веры они, напротив, абсолютно аутентичны, в каком-то смысле сопричастность причастию и есть сама вера, христианская вера. Найти подходящие доказательства и удовлетвориться ими есть, разумеется, дело обычное для человека верующего. Но это знак примирения с наукой, с соседним семиозисом, и сама по себе удовлетворенность доказательствами никоим образом не определяет опыта веры. Пребывающий в вере пребывает в ней отнюдь не потому, что получил надлежащие доказательства, это момент факультативный, он мог бы и отсутствовать – да и присутствует всегда как подспорье. Если есть вера, то привлечение соседних семиозисов, в том числе привлечение доказательств, по крайней мере, не повредит ей. Если же веры нет, то никакие доказательства, как ты их искусно ни группируй, ничего не могут изменить в существующем. Такова же, как уже отмечалось, роль доказательств и опровержений в семиозисе ревности. С другой стороны, отсутствие доказательств при наличии веры ничем существенным не может ей повредить. Не вложившие своих перстов как минимум ничего не потеряли в сравнении с Фомой.
Автономность ипостасей, самодостаточность семиозисов, хорошо видны на примере теологии, где, как уже отмечалось, роскошные интеллектуальные построения могут путем апелляции к двойной органике захватить дух, возбудить чувство метафизической крутизны: резонанс такого рода находится в близком соседстве с резонансом опыта веры, но все же сам по себе относится к опыту мыслимого: для того чтобы стать хорошим теологом, вера как форма живого присутствия, увы, необязательна. Ибо опять же «верить» это не значит собирать доказательства истинности тех или иных постулатов, это значит хотя бы отчасти соприсутствовать в опыте Авраама, в опыте немыслимого как немыслимого. Тогда можно дружественно развернуть к себе близлежащие семиозисы, и знание, и азарт, и риск, и даже ревность – и, напротив, укрыться, экранироваться от враждебных разворотов тех же семиозисов.
Теперь вновь вернемся к мыслимому как к символической форме, объединяющей в себе весьма разнородные формации от здравого смысла до высокой метафизики (но прежде всего, конечно, науку), каждая из которых подтверждает свою причастность к соответствующему семиозису тем, что свободно полагает в качестве своего иное и соответственно, обрабатывая свой предмет (размышляя), воздействует на сущее так, что потом остается лишь подложка сырого, не-мыслимого сущего, то есть труд как замедление. К уже обработанному предмету, к тому, что хорошенько обдумано (семь раз отмерено), добавляется контактное воздействие в плотных слоях сущего. Можно было бы сказать, осуществляется само дело или собственно дело, но это значило бы недооценивать работу семиозиса, недооценивать те преобразования, которые не-мыслимое уже претерпело в качестве предмета мысли. Ведь то иное, которое является привычным предметом мысли, – это мир вещей в том смысле, в каком его понимал уже Гегель, а в своем важнейшем измерении это производственный процесс. Он максимально сближен с мыслимым, отличаясь лишь отдельным существованием, но ведь эта отдельность, вненаходимость, задана уже в сфере рефлексии, где она представлена, в частности, как источник всемогущества мысли (так что остается вопрос, почему же «всемогущество мысли» имеет именно этот, а не иной источник). Наконец, для того, чтобы перейти от понятия, от know how, к самому изделию, нужно еще дополнительно руки приложить, но это «рукоприкладство» образует в некотором роде редуцированный момент производственного процесса. Собственно, смысл научно-технического прогресса в значительной мере и сводится к редуцированию рукоприкладства. Сначала к определенному мыслимому, то есть определенному уже в качестве предмета мысли, применяются некоторые мыслительные операции, так что производится обработка, которую в самом общем виде принято называть обдумыванием, затем следует рукоприкладство: необходимо приложить руки, например, к топору или к ивовым прутьям, чтобы сплести корзину. Но в принципе по завершении обдумывания можно ведь приложить руки к кнопке, к сенсорной панели – и произойдет сброс в овеществление. По большому счету речь идет о соотношении фаз производственного процесса, и это соотношение имеет исторически изменчивый характер.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: