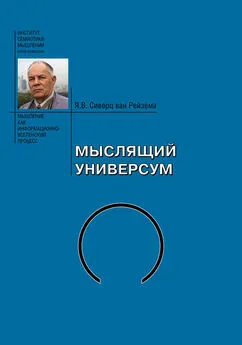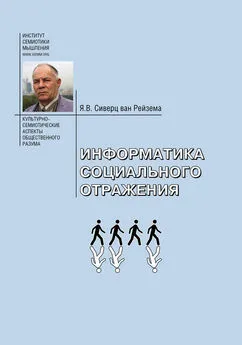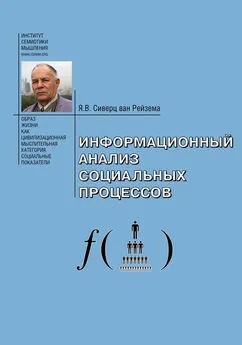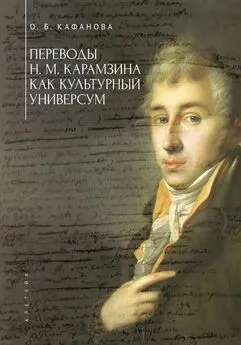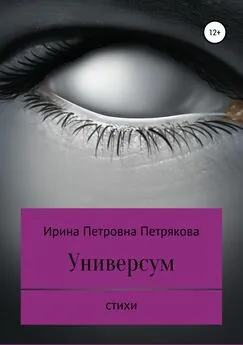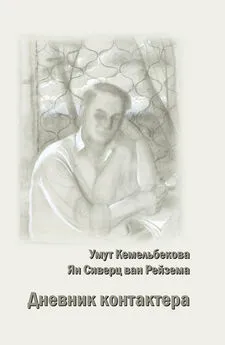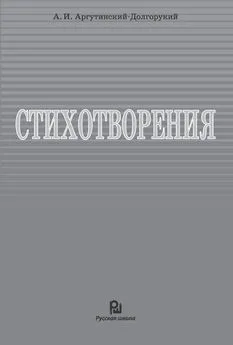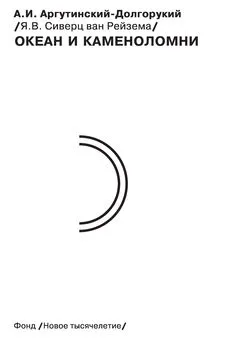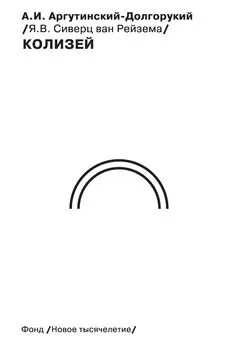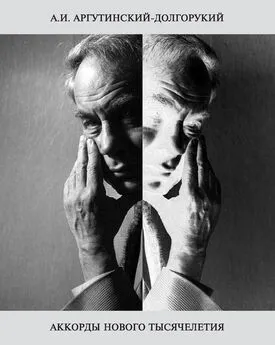Ян Вильям Сиверц ван Рейзема - Мыслящий Универсум
- Название:Мыслящий Универсум
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Русская школа»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-86947-067-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ян Вильям Сиверц ван Рейзема - Мыслящий Универсум краткое содержание
С авторской точки зрения, раскрытие природы и определение целей созидательного мышления общества (общественного разума), понимание дальнейших путей его развития возможно лишь на основе единства согласованных философских, социологических и информационно-семиотических подходов.
Мыслящий Универсум - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В центре ноосферного процесса находится, согласно Вернадскому, культура, объединяющая все виды разнообразного исторического творчества народа: его образ жизни, философию, искусство, технику, политику и науку.
Способность личности к сознательному научному творчеству является, согласно Вернадскому, новым элементом, связующим отдельные социальные проявления людей в ноосферный процесс. Вызревание науки в качестве института культуры – решающий показатель развитости общества. Наука концентрирует материальные и духовные производительные силы общества, способствует превращению человечества в единое планетное целое. «Только тот народ, – подчеркивает В.И. Вернадский, – может сейчас выжить свободным и сильным в мировой жизни, который является творческим народом в научной работе человечества [3] Там же.
.
Но что есть научная мысль в ее отличиях от других произведений духовной культуры? В понимании Вернадского она – такое произведение, которое содержит проверку истинности в качестве конечного условия собственного существования. Если отвлечься от полемики Вернадского с философским догматизмом и бюрократизмом, то подобное определение будет соответствовать его взглядам.
Научная мысль, по методу получения, не самодовлеет, поскольку критерии ее правильности включены в историческую систему науки как культурного института, т. е. опирается на аксиологическую и экспериментальную деятельность, находящиеся в преемственности в отношении методов получения результатов. Научный результат по своему содержанию относителен, но относителен в смысле ковариантности методологий результата. Главное отличие в том, что научная мысль – модель правильностей Универсума, содержащая информационную меру отражаемого объекта. Художественная мысль эту меру лишь подразумевает: 1) своей целостностью, 2) соотнесенностью с иными моделями правильности. Но и те, и другие – онтологические модели Универсума, которые поэтому всегда философичны и содержат «счетную» меру достоверности, поскольку сводятся в своей изначальности к «простым» отношениям элементов и связей. Достоинства художественной мысли заключены не только в неповторимости личности автора, но и в способности иновыражения философской и специализированной мысли.
Там, где дух произволен, совершает отлет от своей базы правильности, там кончается научность в ее философском и естественно-прикладном смысле. Плохие (с точки зрения метода получения) материальные, духовные и социальные вещи входят в отрицательный осадок духовного опыта. Не только мышление и его социальная практика производят вещи, но и сами вещи (материальные, духовные, социальные) порождают мышление – метафорически, как отражение в материнской информационной плаценте; предметно – как искусственный интеллект.
Различия между научной и философской мыслью лежат не в области метода, но в области разработки содержания отображений внешнего мира. Это – различие общего и особенного. Наука, в таком смысле, есть углубление специального, которое «рано или поздно», по мере углубления, становится философией.
Дифференциация, разнообразие общего влекут специальное. И то, и другое суть производство социальных вещей. Например, философия Р. Луллия, Дж. Бруно, Г.В. Лейбница произвела такие материально-информационные предметы, как счислительные устройства, способные к сложным семантическим формализмам. С другой стороны, современная информационная техника – результат специализированной деятельности, имеющей итогом ввод в философию и практику материальных и программно-гносеологических систем общественного разума.
Различия между философской, научной и художественной мыслью – знаковые, языковые различия. Это различия в содержании меры. Математические формализмы по контрасту с семантическими формализмами в гораздо меньшей степени допускают «логические паузы». Семантические формализмы, наоборот, оперируют непроявленным знанием, которое содержится в памяти как намек на дополняющий ресурс. Чем основательней исполнено правило, тем «математичней» оказывается результат семантического отражения.
Мышление – философская, научная и художественная мысль – не имеет критерия правильности за рамками исторического опыта. Формы мысли, по своему производству относящиеся к культуре, этим и отличаются от мыслей непроработанных, выступающих как произвольное мнение.
В этом смысле многие философские и фундаментальные разработки не могут иметь эмпирического подтверждения даже в течение обозримого ряда поколений – к такой «двусмысленной» области относится, в частности, космогония и космология. Здесь критерии, сопрягающие взгляды в систему, вынужденно допускают доверие (или, как говорит Вернадский, «научную веру») в качестве исторически приемлемого основания.
Именно поэтому «мировые загадки», решаемые до своего эмпирического предела, не перестают существовать, но отодвигаются вглубь вместе с расширяющимся знанием. «Научная вера», конечно, не религия, так как лишена особого натурфилософского, этического и организационного аппарата. Но она представляет «вещь-в-себе», которая становится «вещью-для-нас» в собственно человеческом значении. Разрешение этого противоречия познания в религиях путем переноса в область «небесного человечества» не является оптимальным. Даже в религиях, где действуют не персонифицированные, а надличные категории, такие, как Логос, Дао, Дхарма, происходит перенос историко-космогонического опыта.
Противоречие, однако, – диалектика творчества, побуждение к единству культурных форм мышления с целью их сопоставления и критики для получения «положительного остатка». Кантовская антиномия чистого и практического разума преодолевается не чистым познанием разума, а усложнением и разнообразием общественной практики, которая сознает противоречие и тем самым преодолевает его скептическую и антидиалектическую диктатуру. Противоречия между жизнью и не-жизнью, между общественным разумом и его бюрократическим двойником разрешаются расширением сферы жизни разума, т. е. ноосферой.
Общественный разум обладает своей внутренней, интимной структурой. На нисходящих ступенях он – дух, творческая возможность, информационная потенциальность, опирающаяся на индивидуальность человека, его чувства, влечения, впечатлительность, память, побуждения и запреты, на то, что древние именовали душой и что на языке эмпирических наук именуется психическим складом. Понятие души более точно выражает «подоплеку» мыслитель-ности, внутреннее, глубинное состояние нашего «Я».
«Духовное» и «душевное» обогащают восприятие общественного разума в его отличиях, например, от психики общества, разъясняемой и, в конечном итоге, ведомой общественным разумом. Понятие общественного разума может быть лучше раскрыто и через категорию Логоса. Логос человечества – не частный закон небольшой планеты. Он соотнесен с логосом Универсума и как таковой не только подлежит общественному разуму, но и предполагает его.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: