Array Коллектив авторов - Социология регионального и городского развития. Сборник статей
- Название:Социология регионального и городского развития. Сборник статей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «ПСТГУ»
- Год:2014
- Город:М.
- ISBN:978-5-7429-0638-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Array Коллектив авторов - Социология регионального и городского развития. Сборник статей краткое содержание
Сборник состоит из трех частей: первые две части акцентируют внимание читателя на теоретических разработках научного анализа, территориального развития, а в третьей части авторы статей представляют результаты своих прикладных исследований. Используются материалы не только Российской Федерации, но и других стран – Латвии, Белоруссии.
Сборник будет интересен и полезен самому широкому кругу читателей.
Социология регионального и городского развития. Сборник статей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Что понимается под термином «социальное движение»? Это такое движение, которое в ходе социального соперничества подтверждает свою высокую степень историчности. Оно предполагает специфическую идентичность поведения участников такого рода движений и осознанную «оппозиционность» по отношению к «соперникам». Наконец, социальным является движение только в меру того, что оно выражает некую концепцию социальной «тотальности», представленной в глобальном проекте.
Данное положение в понимании Турена имеет глубокий смысл потому, что именно в такой ситуации в поле социального действия возникает (может возникать) фигура социолога. Его роль, как ее определяет Турен, заключается в том, чтобы при помощи анализа и в самом анализе облегчить возникновение новых социальных движений. И исходя из этого можно говорить о появлении «ангажированной социологии».
Ангажированной деятельность социолога становится потому, что исходя из признания историчности социального действия движений он не только видит в них объект своего исследования, но и становится невольным их участником. И потому уже в самом начале социологического вмешательства возникает и то, что мы можем определить как социологическое обязательство.
Социологическое вмешательство является, значит, «методом, который был понят как изучение социальных движений и поведения, с ними связанного» [23, р. 13]. Оно представляет собой практику, адаптированную к специфической концепции общества [22, р. 41]; позволяющую «войти в отношение с самим социальным движением» [22, р. 184] и проводить действие, с тем чтобы «обнаружить основные социальные конфликты в новом обществе» [22, р. 10].
Обращает на себя внимание и еще одна сторона, присущая подходу А. Турена. Он, в частности, утверждает: «…мы не будем отрицать, что наш собственный интерес в акционистском анализе связан с большей чувствительностью к движениям социального преобразования, чем с механизмами интеграции общества» [20, р. 150]. И эта «чувствительность к движениям социального преобразования» предполагает развитие у социолога «чувства солидарности с коллективными действиями» [22, р. 251].
Обращает на себя внимание еще одно положение А. Турена, связанное с социологией вмешательства: «Социология по необходимости выступает против власти по одному простому основанию, что власть по необходимости выступает против нее» [21, р. 79]. Функция просветителей (с которыми Турен отождествляет социологов) включена в их компетенцию; они имеют предназначение быть оппозиционными по отношению ко всем политическим и административным властям; они «преодолевают границы в движении идей и персон» [21, р. 201].
Следует обратить внимание на такой момент: социолог является неотъемлемой частью общества, которое он изучает и в рамках которого он действует. И он не может претендовать на то, чтобы «быть свободным от всех социальных связей». Он не может, значит, выдвигать на передний план только свою независимую интеллектуальную деятельность, т. е. деятельность, определенную «лишь профессиональными нормами» научного сообщества.
«Социологическое вмешательство оказывается… наиболее близким к активистскому, политическому или религиозному действию» [22, р. 272]. Социолог, по определению, должен «стремиться помочь людям делать свою историю в тот момент, когда на руинах разрушенных или преданных иллюзий (эта) вера в способность обществ самовоспроизводиться отступает. Не является противоречивым утверждение, что социологическое вмешательство имеет историческую ценность и признание, что оно является также знаком желания заставить возродиться сознание возможного действия, а также содействия защите и укреплению шансов демократии» [24, р. 216–217].
После утверждения об ангажированной позиции исследователя, Турен, похоже, уравновешивает свою точку зрения: «Социолог не является ни официальным представителем, ни идеологом»; в момент вмешательства «он должен отказаться как от роли эксперта, так и от роли активиста. Существо этого подхода заключается во встрече двух логик – логики действия и логики знания. Не создается никакого знания с того момента, как мы становимся ангажированными или принимаем логику актора» [23, р. 35]. Социолог «не может быть идентифицирован ни с актором, ни еще менее с его соперником» [22, р. 186]; он является «посредником между группой активистов и социальным движением, которое несет в себе действие последнего» [22, р. 42]. Это точка равноудаления «ангажированного социолога» и подлинно научной активности социолога, которой, кажется, Турен достиг.
Социология вмешательства неразрывно связана и с социологией организаций. Организации, как известно, являются социальными конструкциями, системами действия, которые нельзя никогда понять a priori. Акторы, обладающие подлинным «стратегическим инстинктом» [9, р. 210], понимаемым не как осознанный оптимальный расчет, а скорее как поведение с ограниченной рациональностью, играют по правилам, которые им навязываются, и в то же время никогда им не подчиняются полностью. Таким образом, функционирование организации никогда не может быть полностью формализованным. Каждая ситуация, связанная с деятельностью организации, является множественной, и никакая типология, никакая модель a priori не позволяет понять, что скрывает специфическая игра в пространстве организованного действия.
Весьма эффективным средством осмысления деятельности организаций в последние десятилетия стал так называемый стратегический анализ. Организации с точки зрения такого анализа рассматриваются как «случайные человеческие построения» [8, р. 33], как совокупности, которые не являются результатом «интенционного характера функционирования» [9, р. 57] и которые включают в себя элементы «организованной анархии» [9, р. 76]. В рамках такого понимания, «человек всегда сохраняет минимум свободы… он не может помешать себе ее использовать для того, чтобы побороть систему» [8, р. 42]. Какими бы ни были внешние воздействия или, как их иногда называют, принуждения, индивид всегда сохраняет возможность соглашаться или отказываться от следования за ними, т. е. у него есть выбор. «Не бывает социальных систем, полностью регулируемых или контролируемых. Индивидуальные или коллективные акторы, которые составляют организации, не могут быть никогда сведены к абстрактным или оторванным от действительности функциям» [9, р. 25].
Таким образом, функционирование организованной совокупности в рамках стратегического анализа осмысливается на основе модели некой игры, в центре которой существенная роль принадлежит концепции власти, определяемой и понимаемой как асимметричное отношение, в котором каждый член данной организации может принимать участие в его ежедневном выражении. Власть, а скорее властное отношение, повсеместно присутствует в социальных отношениях. И эта власть не является ни плохой, ни хорошей. Она необходима, и она воздействует на каждое отношение (дружеское, любовное, профессиональное и т. д.).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:





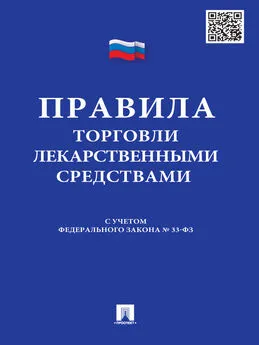
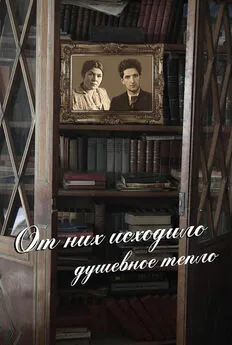
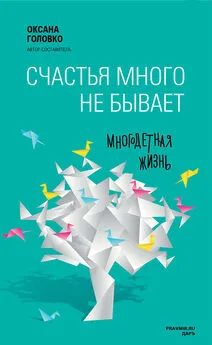
![Коллектив авторов - Полевое руководство для научных журналистов [сборник статей]](/books/1096204/kollektiv-avtorov-polevoe-rukovodstvo-dlya-nauchnyh.webp)

