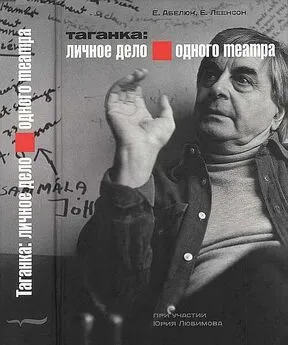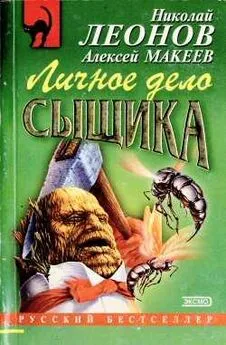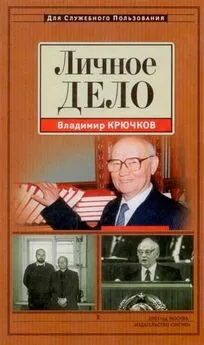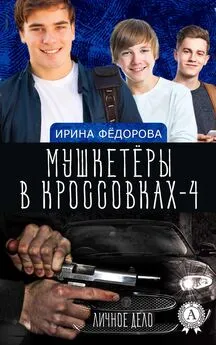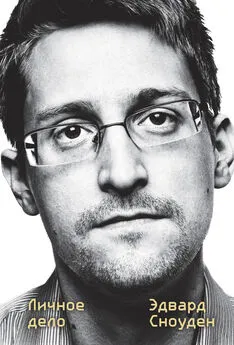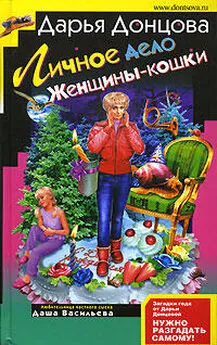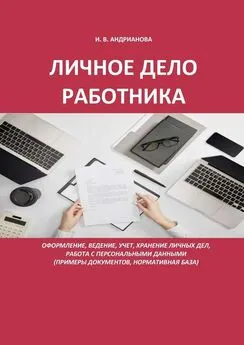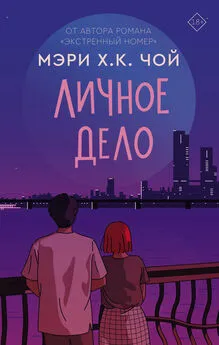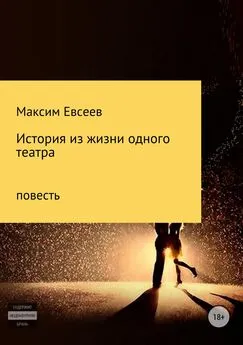Евгения Абелюк - Таганка: Личное дело одного театра
- Название:Таганка: Личное дело одного театра
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:5-86793-509-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгения Абелюк - Таганка: Личное дело одного театра краткое содержание
К книге приложен DVD-диск с фрагментами спектаклей и репетиций.
В оформлении обложки использована фотография
Таганка: Личное дело одного театра - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ретроспектива
А главное, гоните действий ход
Живей, за эпизодом эпизод.
Рефрен в спектакле «Фауст» по Гёте (пер. Б. Пастернака)Шестидесятые годы семидесятые годы… Они давно ушли в прошлое. Многое забывается. Забываются и ранние спектакли Театра на Таганке, и те страсти, которые вокруг них бушевали. Забываются даже пережившими то время. Что уж говорить о тех, для кого память о шестидесятых — часть исторической памяти, воспитанной в школьные годы. И все-таки остались воспоминания, статьи, рассказы участников и свидетелей тех событий — критиков, актеров, режиссеров, зрителей. Записи их впечатлений позволяют устроить хотя бы выборочную ретроспективу старых спектаклей Театра на Таганке. Конечно, это будет воображаемая ретроспектива.
Первый спектакль Таганки был поставлен в духе площадного, уличного представления.
«Добрый человек из Сезуана» [28] Б. Брехт «Добрый человек из Сезуана». Пер. с нем. Ю. Юзовского и Е. Ионовой. Пер. стихов Б. Слуцкого. Режиссер Ю. Любимов. Художник Б. Бланк. Музыка А. Васильева, Б. Хмельницкого. Премьера состоялась 23 апреля 1964 г. Спектакль возобновлен в 1988 г.
Искусство должно воспитывать людей.
Так вот, «Добрый человек» меня воспитывал.
А. Эфрос[29] Эфрос Анатолий. Репетиция — любовь моя. Фонд Русский театр. Изд-во Пан ас, 1994. С. 157–158.
Позднее, когда театр состоялся и в него со всех концов страны стали приходить письма зрителей, среди прочих было и такое: «Здравствуйте, дорогие незнакомые друзья! ‹…› Мы читаем Брехта, и единственная его вещь, которую мы слушали по радио (4 раза!) в исполнении ваших артистов, — это „Добрый человек из Сезуана“. А спектакли — их ведь надо смотреть, а не читать или слушать. ‹…› Мы страшно хотим попасть в ваш театр, а он, говорят, за семью печатями. ‹…› Раз в год имеем возможность съездить в Москву и не можем попасть в свой любимый (да, черт возьми, любимый!) театр» [30] Из письма студентов ЧГАИ коллективу Театра на Таганке (Архив Театра на Таганке).
.
Что же могли бы увидеть авторы этого письма, если бы они попали на спектакль? Представить себе это можно, прочитав впечатления профессиональных зрителей — театральных критиков, например Натальи Крымовой [31] Крымова Н. Имена. Рассказы о людях театра. М.: Искусство, 1971. С. 144.
.
Пустая сцена. Только по краям небольшие стенки — возвышения, похожие на уличные тротуары. Вместо задника натянута грубая серо-белая материя. Может быть, она изображает стену дома. Или просто ограничивает пространство сцены.
Единственное, что сразу останавливает внимание, — это лицо, которое нарисовано справа, во всю высоту сцены. Глубоко посаженные глаза в оправе очков; резкие и короткие прорези морщин между бровями и в углах рта; рот в гримасе, не поймешь — веселой или горестной. А может быть, человек этот говорит речь. Лицо похоже на маску античной трагедии, — если бы не очки, не ежик волос, не явная современность облика. Это Бертольт Брехт.
На мгновение выключили свет и снова зажгли. Теперь сцена заполнена действующими лицами, они выстроились в ряд, от края до края подмостков, очень близко к публике. В центре два парня, один с аккордеоном, другой с гитарой, играют какую-то бравурную наступательную мелодию, а между ними на самом краю сцены еще один, в фуражке и пиджачке, тоже с гитарой в руках, говорит под этот аккомпанемент.
Он говорит о том, что время от времени надо искать театр, корни которого уходят в жизнь улицы… и предупреждает нас, что именно такой театр нам сейчас будет показан. Воинственно и задорно изложив под музыку таким образом эстетическую программу будущего спектакля, он снимает фуражку и почтительно кланяется Брехту. Все теперь стоят подтянутые, резко повернув головы к портрету. Минута молчания — дань уважения автору, — и спектакль начинается.
Он прямо так и начинается, с жизни улицы. Выбежал водонос с большой бутылью [32] Точнее было бы сказать, что в руках у водоноса был кувшин.
и кружкой на веревке (кстати, его стал играть тот самый певец, который излагал нам сейчас эстетику спектакля, только теперь он снял пиджак и оказался в свитере, дырявом как сито), какие-то прохожие заходили взад и вперед по тротуарам, выглянула из своего дома проститутка.
Однако это была совсем не такая жизнь улицы, какой ее изображают «неореалисты» [33] Итальянские кинорежиссеры-неореалисты создавали у зрителя иллюзию реальности. Например, для этого они снимали случайные уличные сцены.
. Актеры будто решили передразнить тех, кого играли. (Как «ваша соседка изображает домохозяина», — сказано было про это во вступлении.) Актер изображал водоноса — он разыгрывал перед нами сценки, будто он сейчас — водонос, немножко кривлялся, немножко шутил, иногда вдруг говорил серьезно, смешно жестикулировал и вертел головой в такт музыке. Прохожие тоже не старались делать вид, что они настоящие прохожие, — не скрывали, что им только сейчас положено изображать таких-то прохожих: вот так выглядят прохожие в Сезуане, когда они торопятся по своим делам.

Все это, по правде говоря, казалось непривычным.
«Чаще всего любимовские актеры обходились вообще без бутафории и реквизита. Если по сцене торопливым шагом идут прохожие, значит, и гадать нечего, сцена „изображает“ собой улицу. Ради „уточнения“ восприятия актеры шли по одной геометрически прямой линии, и зрители тотчас догадывались, что линия эта — тротуар.
Театр ни одного мгновения не скрывал, что он — театр, не притворялся самой жизнью. Актеры обращались к зрителям с вопросами, с большими страстными монологами, прерывали действие „зонгами“, шутили с публикой… Тем не менее, действие было чрезвычайно драматичным и серьезным» [34] Рудницкий К. Л. Спектакли разных лет. М.: Искусство, 1974. С. 296–301.
.
Пожалуй, только одна проститутка играла натуральнее других. Ее взлохмаченная голова высунулась из окна (впрочем, не из окна, а из-за портрета Брехта, который, когда начался спектакль, стал изображать стену дома, или просто ширму). Так вот, она выглянула из окна и почти так, как это делают в обычных, реалистических спектаклях, заговорила с водоносом.
Суть была в том, что на землю спустились боги (три смешных парня, двое высоких и один маленький, вышли на сцену и уселись на «тротуаре»), их надо было устроить на ночлег, но никто не хотел слушать водоноса, и вот теперь он обращался к проститутке Шен Те. Тут тоже произошло какое-то недоразумение, и, решив, что все пропало, и в Сезуане — позор! — не нашлось пристанища богам, — водонос принялся отплясывать танец отчаяния. Он показывал нам в этом танце, что ему стыдно за своих горожан. Отбежав вглубь сцены к грязно-серой стене, он в такт музыке вскидывал руки вверх и делал странные движения всём телом, будто бился головой о стену от стыда и отчаяния.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: