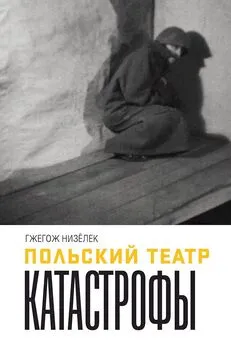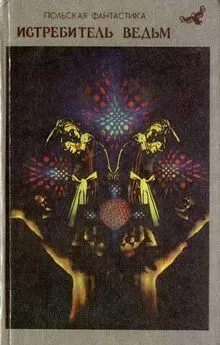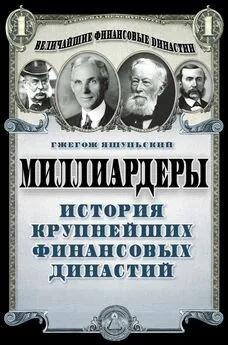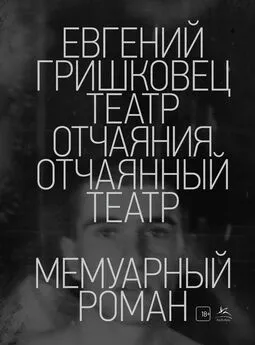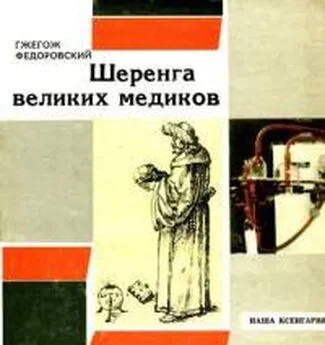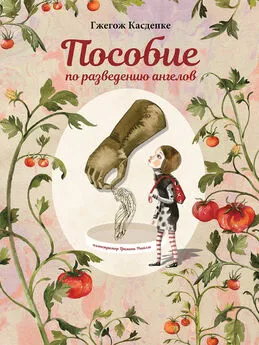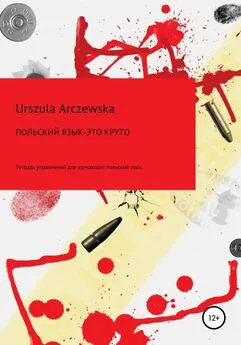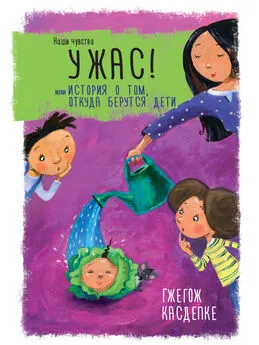Гжегож Низёлек - Польский театр Катастрофы
- Название:Польский театр Катастрофы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-44-481614-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Гжегож Низёлек - Польский театр Катастрофы краткое содержание
Книга Гжегожа Низёлека посвящена истории напряженных отношений, которые связывали тему Катастрофы и польский театр. Критическому анализу в ней подвергается игра, идущая как на сцене, так и за ее пределами, — игра памяти и беспамятства, знания и его отсутствия. Автор тщательно исследует проблему «слепоты» театра по отношению к Катастрофе, но еще больше внимания уделяет примерам, когда драматурги и режиссеры хотя бы подспудно касались этой темы. Именно формы иносказательного разговора о Катастрофе, по мнению исследователя, лежат в основе самых выдающихся явлений польского послевоенного театра, в числе которых спектакли Леона Шиллера, Ежи Гротовского, Юзефа Шайны, Эрвина Аксера, Тадеуша Кантора, Анджея Вайды и др.
Гжегож Низёлек — заведующий кафедрой театра и драмы на факультете полонистики Ягеллонского университета в Кракове.
Польский театр Катастрофы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Лиотар предлагает новое прочтение театрального пространства — как места аффективных воздействий, как места, где записываются и стираются события, стабилизируются и распадаются диспозитивы (модели аффективного реагирования). Таким образом перед зрителем открываются новые перспективы участия. Одна из них — это критическая позиция, которая позволяет уловить тот факт, что те, кому принадлежат нарративы, стремящиеся управлять нашими аффектами и принципами циркуляции социальной жизни, остаются невидимыми. Зритель, однако, — не только критически настроенный свидетель тех механизмов, которые вызывают к жизни сценические репрезентации, он сам участвует в процессе циркуляции социальной энергии. Лиотар объясняет: «Итак, когда мы говорим: следствия, речь идет не о следствиях из причин. Речь идет не о том, чтобы возложить ответственность за следствие на причину, сказать себе: если тот или иной дискурс, то или иное лицо, та или иная музыка производит такой эффект, то это потому, что… Речь в общем-то как раз о том, чтобы не анализировать (даже в „шизо-анализе“) в рамках дискурса, который вынужденно окажется дискурсом знания, а, скорее, достаточно утончиться, превратиться в достаточно анонимные тела, тела достаточно проводящие, чтобы не останавливать эффекты, чтобы проводить их к новым метаморфозам, чтобы извлечь их метаморфическую силу, силу пересекающих нас эффектов» [131] Лиотар Ж.-Ф. Либидинальная экономика. М.; СПб.: Изд-во Института Гайдара; Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2018. С. 434–435.
.
Я вижу послевоенный польский театр как место защитной и в то же время взрывной — именно что либидинальной — активности, вызванной историческими потрясениями, в центре которых оказалось переживание — неизбежное, но в то же самое время подвергаемое вытеснению и забвению: состояние свидетеля чужого страдания, унижения и смерти (следует, однако, помнить, что это переживание невозможно записать в одной-единственной модели, хотя бы из‐за упомянутой выше проблемы очень различающихся, в рамках польской культуры, позиций свидетелей по отношению к событиям Катастрофы). Вспомним еще раз сцену из «Самсона» Казимежа Брандыса. Стоит переместить внимание на «зрителей», на уличных прохожих, чтобы увидеть «анонимные тела», через которые проходит «метаморфическая сила». Якуб, ослепленный солнцем, не принадлежит в их глазах миру живых, его отделяет от них невидимая, но непреодолимая граница. Для прохожих он репрезентирует мир, который уже перестал существовать, стал невидимым. То есть, как актер в традиционном театре, он репрезентирует «отсутствие». А его судьбой управляют скрытые, находящиеся за кулисами, силы. Три разделительные линии, о которых писал Лиотар, оказываются обозначены в тот момент, когда Якуб появляется на улице. Эта внезапная театрализация чужой судьбы высвобождает двойную реакцию прохожих-зрителей: эта судьба их трогает и парализует, они чувствуют прилив энергии и остаются в бездействии.
Театр — это, как я уже писал, место кругооборота энергии: как ее сознательной организованной циркуляции, так и неожиданных и не поддающихся контролю перемещений. Когда этот кругооборот сознательно запрограммирован, он поддается анализу в рамках реконструирования художественных стратегий создателей спектаклей (тут мы остаемся в рамках стратегии причин и следствий, о которой писал Лиотар, в рамках стратегии конструирования репрезентации). И, более того, как каждое действие субъекта, их тогда можно рассматривать в категориях психической защиты. Во втором же случае перемещения энергии оказываются либо забыты (как случайные, непреднамеренные, лишенные значения, «неприличные» или же «юмористические»), или же, уже ex-post, экспроприированы. Существует, например, множество свидетельств, которые говорят, что Тадеуш Кантор не ожидал столь шокирующего впечатления, какое произвел «Умерший класс» на первых зрителей — этот аффект, однако, позволил ему заново переосмыслить стратегии собственного искусства [132] См. главу «Тревога и что дальше…».
, заставил заново задуматься над защитными механизмами, которыми — в театральном пространстве — располагает культура. До того момента Кантор занимался исключительно тем, что их демонтировал: будь то в рамках «Нулевого театра» или «Невозможного театра», — включая зрителей в игру, правила которой они не знали [133] См. главу «Публику сминают».
.
Можно сказать, что каждый театральный спектакль, обладающий большой силой аффективного воздействия, — это поле многократно генерируемой и непредсказуемой циркуляции энергии. Таким образом, нужно еще раз — под этим углом — прочитать существующую театральную документацию, ища следы такого рода инцидентов. Пусть даже навсегда останется неразрешимым, что тут было непредвиденным случаем, а что структурированной регулярностью.
В процессах забывания ключевую роль играет отделение аффекта от созданного памятью образа: благодаря чему этот образ утрачивает динамику, связанную с энергетическим потенциалом аффекта, а тем самым теряет способность достигать нашего сознания. В этом смысле Лиотар прав: переживание потери — это иллюзия, которую создает сознание. Этически более важными (и более опасными) представляются для Лиотара механизмы, позволяющие скрывать от сознания факты забывания. К ним относятся — парадоксально — любые формы нарративизации памяти, которые приписывают себе привилегии памяти, а чаще всего начинают заслонять — не столько то, что забыто, сколько сам факт забвения. Главный завет Лиотара это: нельзя забывать о забвении. Следует помнить о том, что «не перестает забываться» [134] Лиотар Ж.-Ф. Хайдеггер и «евреи». СПб.: Аксиома, 2001. С. 12.
.
Высвобожденные аффекты могут соединяться с другими представлениями, в то время как картины памяти, лишенные динамики аффектов, ждут того, чтобы их снова наделили либидинальной энергией. Судьбы аффектов, как подчеркивает Фрейд, более важны, чем судьбы представлений [135] Фрейд З. Вытеснение // Фрейд З. Собр. соч. в 10 томах. Т. 3. М.: Фирма СТД, 2006. С. 111–128.
. Аффекты, оторванные от первоначальных представлений, не перестают действовать, они находят для себя новые представления или контрабандой протаскивают остатки первоначальных представлений, монтируя друг с другом гетерогенные картины; сами они тоже подвергаются метаморфозам. В то время как настоящие картины памяти или остаются скрыты, или кажутся нейтральными, «неопасными», они немного или вообще ничего не значат для субъектов, иногда могут беспрепятственно всплывать в поле сознания, не вызывая слишком сильных реакций.
Приведу пример из области театра. В спектакле Ежи Гжегожевского «Город считает собачьи носы» (театр «Студио» в Варшаве, 1991) сцена ослепления Глостера была разыграна следующим образом: тело Глостера съезжало головой вниз по наклонной плоскости и тут, внизу, его подвергали пыткам. Гжегожевский в высказываниях, сопровождающих премьеру, утверждал, что его спектакль обращается к ситуации введения военного положения в Польше в декабре 1981 года (несмотря на то что на текстуальном и изобразительном уровнях он оперирует аллюзиями на драмы Шекспира, Чехова и Элиота). Это отнюдь не было очевидно в самом спектакле, даже если некоторые визуальные сигналы отчетливо вызывали ассоциации с воспоминаниями о том времени: жаровня, рыцарские облачения, напоминающие мундиры зомовцев [136] ЗОМО — Моторизованная поддержка гражданской милиции, силовая структура во времена ПНР. — Примеч. пер.
, прозрачные щиты, резиновые палки. Сцена ослепления Глостера казалась формой сценической фантазии, режиссерским вымыслом, призванным подчеркнуть универсальность той жестокости, которой было отмечено представляемое событие. Сценический образ, однако, скрывает в себе историческую тень, уже не связанную с реалиями времен военного положения. Образ тела, съезжающего головой вниз по узкому спуску, мог бы ассоциироваться с одним из шокирующих образов варшавского гетто, запечатленных на киноленте: именно так спускали в братскую могилу лежащие штабелями мертвые тела, собранные с улиц гетто. Можно допустить, что многие зрители этот образ где-то видели (в газете, по телевидению, в кино, на выставке), но вряд ли кто-то опознал его на сцене. Не имеет, в свою очередь, ни малейшего значения, осознавал ли Гжегожевский эти коннотации. Вопрос ведь не в намерениях художника, а в культурном и историческом факте циркуляции образов со стершейся генеалогией, возможность или невозможность их идентификации. Забвение следует тут как раз из диссоциации аффекта и оставленного в памяти следа.
Интервал:
Закладка: