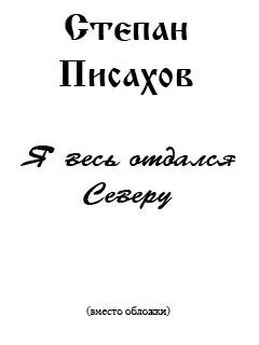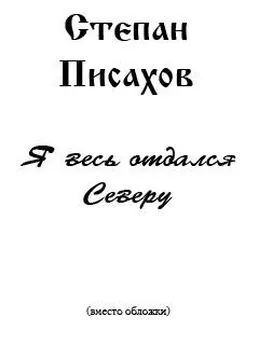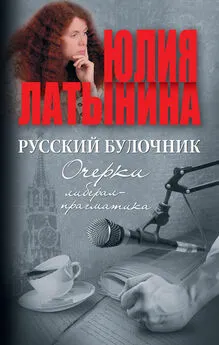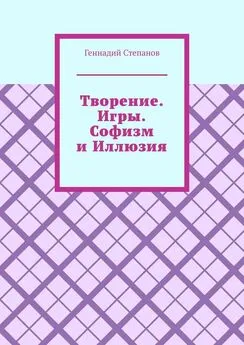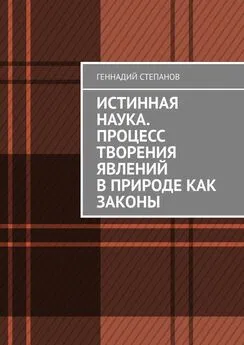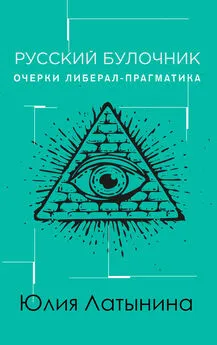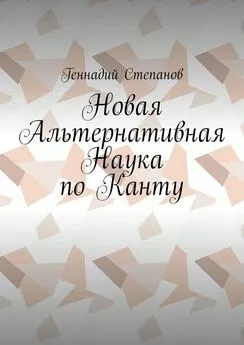Степан Ванеян - Гомбрих, или Наука и иллюзия. Очерки текстуальной прагматики
- Название:Гомбрих, или Наука и иллюзия. Очерки текстуальной прагматики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Высшая школа экономики»1397944e-cf23-11e0-9959-47117d41cf4b
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-1257-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Степан Ванеян - Гомбрих, или Наука и иллюзия. Очерки текстуальной прагматики краткое содержание
Книга представляет собой собрание эссе на тему насущных проблем истории искусства как практики возобновления смысла применительно к визуальной реальности прошлого. Ориентиром в этом начинании служит предельно монументальная фигура Эрнста Гомбриха – историка, но прежде всего теоретика истории искусства, достигшего в своей научной дискурсивности уровня подлинного творчества и обнажившего перформативные корни научного знания как такового. В лице Гомбриха и в сюжетах его взаимоотношений с иными личностями – Поппером, Варбургом, Панофским, Митчеллом, Прециози, Виндом и многими другими – обнаруживаются и сущностные аспекты науки как межличностной коммуникации внутри и по краям разнообразных концептуальных контекстов, что дает специфические иллюзорные эффекты, родственные эффектам достоверности, на которые, как обычно считается, способны лишь изобразительные искусства.
Книга будет полезна специалистам в области эстетики, психологии и философии, а равно и всем, интересующимся искусством и его интерпретацией.
Гомбрих, или Наука и иллюзия. Очерки текстуальной прагматики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Хотя Аккерман резонно и остроумно обозначает еще один – социологическо-исторический – аспект преобладания в американской науке настороженности касательно критики: отсутствие собственной истории искусства, необходимость совершать путешествия для непосредственного контакта с искусством, так сказать, на месте вкупе с традиционным господством классической археологии и филологии.
Многие не имеют опыта обращения с искусством как с формой переживания в настоящем и потому разделяют подозрительное отношение к оценочной критике [386].
Более того, один из вариантов такой академическипсихологической социологии науки – тенденция рассматривать искусство как аспект более широкого контекста культуры. Это явный камень в огород иконологии, действительно связанной с культурологией (практика «аккумуляции знания, а не поиска значения»), в том смысле, что выученное, полученное по ходу обучения знание (learning) может не совпадать со значимым, актуальным, то есть собственным значением (meaning) изучаемого материала. В связи с этим можно вспомнить куда более нелестную характеристику А. Варбурга со стороны Г. Лютцеллера: «…в целом, художественный гений оставался ему чужд…» [387]
В какой-то момент размышления Аккермана приобретают по-настоящему монументальную чеканность и эпическую масштабность, когда он говорит, что речь идет не просто об антифилософских настроениях историков, даже не подозревающих в себе бессознательные комплексы стихийных позитивистов-материалистов, а о желании сознательно «свести к минимуму фактор творчества в научно-исторической практике» [388]. Более того, речь идет о тех,
чья уверенность в возможности объективности приводит их к убеждению, будто история не создается, но открывается, так что всего лишь имеется потребность в методе, способе мышления, даже в воображении, но никак не в вере [389].
Именно давняя гуманистическая (и потому гуманитарная) традиция, питающая литературоведение, дает столь мощную критическую установку, что не только избавляет историков литературы и тем более самих литераторов-теоретиков (того же Т. С. Элиота) от ложных страхов по отношению к оценочной деятельности, но прямо позволяет надеяться «на признание проблем ценности без отрицания научности» [390].
Но пока подобные надежды применительно к истории искусства и вообще научного обращения с пространственными искусствами упираются в суеверную убежденность, что
история искусства – это мышление и может практиковаться лишь как активность документирующая, но никак не созидающая. ‹…› Я смотрю на критическую практику не как на дополнительную технику, что пригодна для усвоения историками, но как на исполненную вызова проблематику, что заставляет нас пересмотреть фундаментальные философские принципы, которыми мы оперируем [391].
Критика искусства: субъективная подлинность и объектность коммуникативных надежд
Так совершается переход к следующему разделу текста Аккермана, прямо посвященному «историку как критику», чье существование возможно не просто как один из вариантов научного верования (наряду с мифом о раздельном существовании объекта и субъекта), но как единственно возможная позиция по одной простой причине:
…мы не можем четко различать «объективные» и «субъективные» факторы визуальной перцепции, так что едва ли не каждое наше заключение относительно произведений искусства несет на себе печать нашей персональности, нашего опыта и нашей системы ценностей, пусть и в разной степени [392].
Следующие формулировки Аккермана следует привести с максимальной дотошностью, ибо они определенно и ясно передают положение дел не в одном искусствознании, а в науке как таковой.
Основная проблема – в невозможности представлять себе объективное знание, то есть знание о некотором объекте, как знание определенное, так как затруднительно представить себе некое сообщение, исходящее от определенного объекта: субъект, как известно, получает одновременно целый поток если не сообщений, то точно впечатлений. И сам субъект – это вовсе не какая-то «губка», тщательно впитывающая инвариантный сигнал, поступающий от некоторого источника: воспринимающий субъект – это
активно задействованный участник восприятия, который видит в воспринимаемом объекте, в том числе и в произведении искусства, то, что предписывают ему видеть – замечать и отбирать – его ожидания, связанные с предыдущим опытом, и что его воображение ему подсказывает добавить в этот опыт и что в нем изменить [393].
Так что мы оказываемся перед лицом одной явной и убедительной тавтологии: всякий опыт, который можно описать как реакцию на визуальный объект и приписать мне как субъекту, всегда будет внутри меня и потому субъективным: никакую мою реакцию невозможно считать объективной.
Но объективность присутствует в другом месте: если я что-либо утверждаю о моих реакциях и если я желаю, чтобы мои утверждения были восприняты другими, то я верю, что мой опыт соотносится с опытом других, предполагая и понимание с их стороны моих предварительных установок, и желание усвоить мою информацию – релевантную их установкам. Поэтому нет никакой интуитивно желаемой объективности, мы просто обучены нашим опытом представлять себе объективным то, как другие люди – в границах нашей культуры – «артикулируют собственные реакции». Так что термин «объективный» всего лишь (хотя и это немало) предполагает с нашей стороны допущение, что когда люди делают сходные допущения и делятся сходной информацией, то они делают некоторые утверждения или желают их услышать. И эти утверждения делаются относительно некоторых черт объекта, которые приписываются ему в качестве присущих ему характеристик. То есть фактически то самое, что мы именуем характером произведения искусства, его характерологической структурой, есть всего лишь характер нашего к произведению отношения, в нем отраженный или на него перенесенный. Это наша оценка произведения – и оценка наших возможностей. Поэтому так необходимы методу, в основе которого – «наглядный характер» (Зедльмайр), критические формы, вызывающие, в свою очередь, критические реакции, порой весьма неадекватные, то есть несимметричные, когда критика обращается в карикатуру, сменяется сам тип дискурса и вместо науки является сатира. Высокий жанр сменяется низким, что, впрочем, может быть весьма полезно [394].
Объективность и субъективность не разные состояния сознания, а его полярные положения, ибо восприятие – это единое целое, сопротивляющееся категориальному разложению. И те утверждения, что легко включаются в коммуникативный акт, принимаются как «объективные», а те, что сильнее зависят от индивидуального опыта и восприимчивости (или просто описывают то и другое) и потому требуют усилия для принятия себя, именуются «субъективными» [395].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: