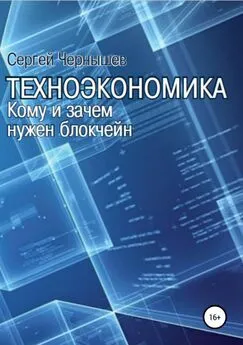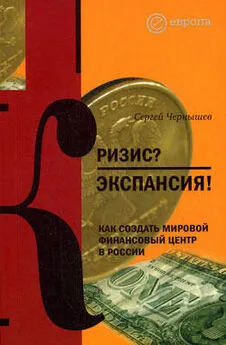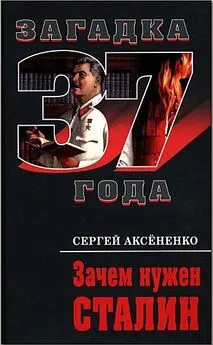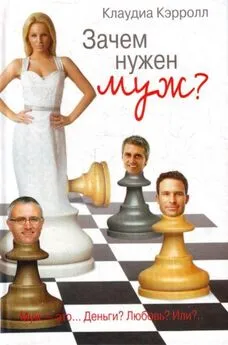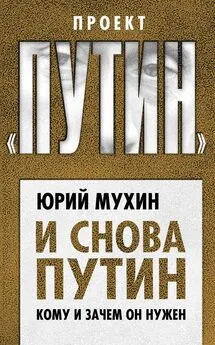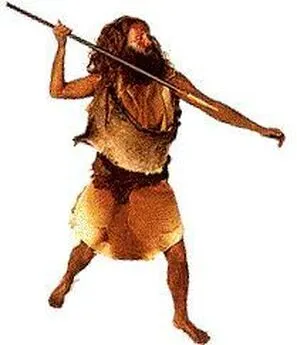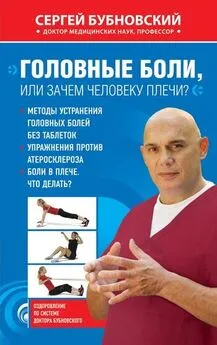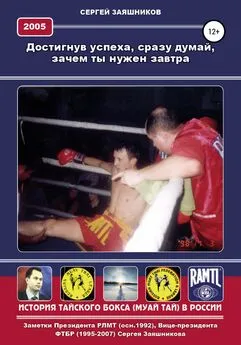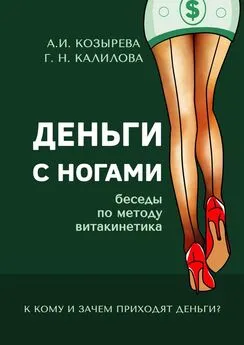Сергей Чернышев - Техноэкономика. Кому и зачем нужен блокчейн
- Название:Техноэкономика. Кому и зачем нужен блокчейн
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Чернышев - Техноэкономика. Кому и зачем нужен блокчейн краткое содержание
Техноэкономика. Кому и зачем нужен блокчейн - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Римляне говорили: navigare necesse est – мореплавание необходимо. Но трижды необходимо производство, дающее человеку пищу, одежду и кров, орудия труда и обороны, физически доставляющее их к потребителю. Из тройки 'производство – распределение – обмен' первое подлежит безусловной защите в периоды кризисов, ибо его подрыв влечёт голод и разруху. Когда же кризис наносит удар по системам обмена, в качестве временного компенсационного механизма включается распределение – и наоборот. Но долго узурпировать чужую функцию нельзя, это чревато социальным уродством.
Советское общество рвануло вперёд потому, что впервые в мире создало современные институты распределения. Высшим его достижением стала победа в космической гонке. Но система распределительных отношений базируется на фундаменте информационных технологий. Когда в начале 60-х в США появилось новое поколение инструментов управления регламентацией – таких как Systems & Procedures и Configuration Management, – мы стали безнадёжно отставать. И уже к концу десятилетия американское общество, оставаясь в принципе рыночным, было по масштабам и качеству хозяйственной регламентации на порядки величин более плановым, чем советское.
Тут-то и вскрылось роковое обстоятельство: система обменных отношений была в советском обществе нежизнеспособной. Мало того, что её слабость унаследована от царской России – институты обмена ещё и попали под идеологическое подозрение как порождающие капиталистическое шкурничество, глубоко чуждое справедливому строю. Но попытки заместить сетевые структуры обмена госплановской иерархической раздачей были обречены.
Едва ли не худшего уродца произвели на свет российские 90-е. Система распределительных институтов не просто развалилась, а целенаправленно изничтожалась как питательная среда гидры тоталитаризма. Адепты рыночного обмена принесли с собой во власть мечту о деньгах, которые в стерильном биржевом обороте невидимо производят сами себя и потому не пахнут. Но Веспасиан, внюхайся он в наш бюджет, сразу учуял бы тяжёлый запах углеводородов.
Ныне антикризисные менеджеры государства спохватились, вдруг обнаружив фатальное отсутствие 'механизмов реализации решений'. Но именно эту роль призваны играть институты, инструменты и стандарты управленческой распределительной регламентации. Всё, что хотят и умеют делать наши макромонетчики, – манипулирование налогами, учетными ставками и проч. – лежит в сфере обмена. А государство со всеми его 'механизмами' обитает в сфере распределения. У нас её было упразднили революционно – теперь же есть невидимая рука! Но обмен никогда не соприкасается с производством непосредственно, только через посредничество институтов распределения. Вот финансисты и теребят ручки виртуальных регуляторов, которые в 'реальном секторе' ни к чему особо не приделаны.
Не зря в совъязе было выражение 'хозяйственный механизм'. Реальному хозяйству нужны механизаторы. И как сказал бы капитан Жеглов, бухгалтер должен сидеть в бухгалтерии.
В обкоме партии Единая Россия
Так что делать, если федеральный центр продолжит ничего не делать? (А спрашивать будет, как обещано, по всей строгости).
В чрезвычайных обстоятельствах будут востребованы непопулярные меры. Ну не умирать же, в самом деле, от голода и холода в томительном ожидании, что кризис на Западе рассосётся, из-за границы десантируются блудные инвесторы, а наша нефть вздорожает пуще прежнего? Ведь все натуральные ингредиенты для производства еды и тепла – в наличии, более того – под рукой. Выход для региональных хозяйственников очевиден, хотя в нём мало радости. Их практичный здравый смысл всё равно двинется вдоль цепочек поставщиков-потребителей.
Берём сетевой график производственных переделов, который заканчивается сборкой-сваркой-синтезом того, что можно съесть или продать за валюту. Движемся по нему в обратном направлении от конечного продукта, пока не доходим до всех видов нужных производственных фондов, сырья и комплектующих изделий, которые в регионе имеются в натуре. Собираем их собственников в обкоме ЕР и строго говорим, что – в силу революционной целесообразности и для их же блага – они вкупе с ресурсами объединяются в проектный предпринимательский колхоз. Причём работа начинается немедленно, а справедливая плата поступит потом, по завершении проекта, когда его продукт попадёт на потребительский рынок. На всём же протяжении проекта его участники будут получать только оклад согласно штатному расписанию, а между собой обмениваться в натуральных показателях. Поэтому потребность в кредитах сразу падает в десятки, а то и сотни раз.
В таком, и только таком раскладе денег Стабфонда и впрямь может хватить.
Осталось понять главное: при каких же условиях этот путь ведёт вперёд, в постиндустриальную экономику, а не назад, к переизданию продразвёрстки и планового волюнтаризма? Речь идёт об инвестиционных институтах, инструментах и стандартах управления перезапуском производства в условиях кредитного паралича.
Планово-рыночное производство [28]
Тотемы рынка и плана
Кризис усилил и без того заметную тенденцию: государственное вмешательство в экономику во всём мире нарастает. Помимо традиционных макроэкономических рычагов власть всё чаще присваивает роли инвестора и прямого собственника. Дискуссия на этот счёт вроде бы в разгаре. Аналитики наперебой обсуждают вопрос о том, когда и при каких обстоятельствах государство должно отступить к докризисным границам. Идеологи стращают тоталитаризмом в случае, если отступление задержится. И практически никто не задаётся естественными, притом – главными вопросами: о причинах, смысле, задачах управленческой экспансии государства, о её эффективности и объективных границах.
Что происходит у нас? Институты обмена парализованы. В дефиците деньги – сама ткань, по которой невидимая рука вышивала свои узорные диаграммы. Тогда на кризисное дежурство волей-неволей заступают институты распределения . Они должны выровнять и удержать фронт, покуда не появится возможность вернуть обменные функции по назначению. При этом засбоившие подсистемы общества нужно отводить в тыл для санации, преобразования, перевооружения. Однако в чём конкретно спасательная миссия институтов распределения? Как именно должны быть модернизированы институты обмена, чтобы кризис был преодолён?
Но обсуждение подобных материй налетает на блокпосты российских архетипов.
Неспособность назвать вещи своими именами – родовой признак архаичного сознания. Важные – и потому пугающие – явления природы и общества табуируются: тотемного зверя нельзя окликать по имени, нужен псевдоним. В данном случае роль слов-заместителей, до неузнаваемости заляпанных идеологической краской, у нас играет пара 'план' – 'рынок'.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: