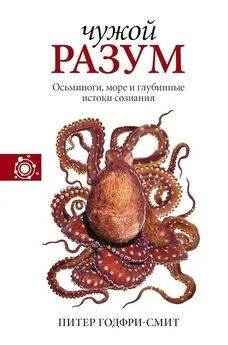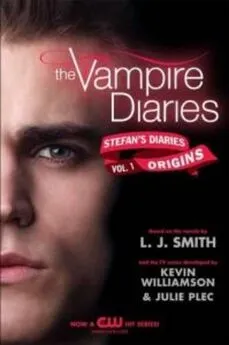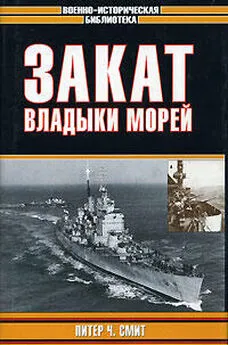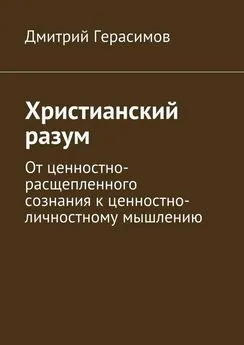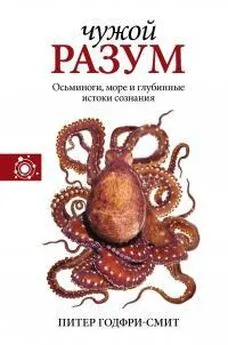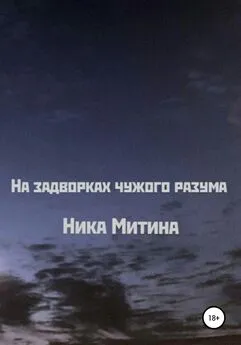Питер Годфри-Смит - Чужой разум. Осьминоги, море и глубинные истоки сознания
- Название:Чужой разум. Осьминоги, море и глубинные истоки сознания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-113538-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Питер Годфри-Смит - Чужой разум. Осьминоги, море и глубинные истоки сознания краткое содержание
Чужой разум. Осьминоги, море и глубинные истоки сознания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Такие опыты проводились и на осьминогах [99] См. W. R. A. Muntz, «Interocular Transfer in Octopus: Bilaterality of the Engram», Journal of Comparative and Physiological Psychology, 54, no. 2 (1961): 192–195.
. Осьминог, обученный решать визуальные задачи с одним закрытым глазом, поначалу вспоминал решение только тогда, когда видел задачу тем же глазом, что и раньше. После дополнительного обучения они стали справляться с задачей, глядя другим глазом. Осьминоги отличались от голубей в том, что какая-то доля информации все же передавалась, но они отличались и от нас, поскольку передавалась она нелегко. Позже зоологи, в частности Джорджио Вальортигара из Университета Триеста, открыли множество других подобных «разрывов» в процессе обработки информации, связанных с тем, что мозг разделен на два полушария [100] См. G. Vallortigara, L. Rogers, and A. Bisazza, «Possible Evolutionary Origins of Cognitive Brain Lateralization», Brain Research Reviews, 30, no. 2 (1999): 164–175.
. Многие виды, по-видимому, более чутко реагируют на появление хищников в левом поле зрения. Некоторые виды рыб и даже головастиков предпочитают держаться так, чтобы видеть сородичей слева от себя. С другой стороны, когда речь идет о поиске пищи, многие животные лучше воспринимают то, что находится справа от них.
Такая специализация как будто несет явные невыгоды: либо животное уязвимо для нападения с одной стороны, либо хуже находит пищу с другой. Однако Вальортигара и его коллеги полагают, что у нее есть и преимущества. Если разные задачи требуют разных методов обработки информации, оптимальным может быть мозг, у которого полушария специализируются на решении разных задач и не слишком тесно связаны между собой.
Эти открытия напоминают опыты на людях с «рассеченным мозгом» [101] См. Roger Sperry, «Brain Bisection and Mechanisms of Consciousness», в Brain and Conscious Experience , ed. John Eccles, 298–313 (Berlin: Springer-Verlag, 1964); Thomas Nagel, «Brain Bisection and the Unity of Consciousness», Synthese, 22 (1971): 396–413; Tim Bayne, The Unity of Consciousness (Oxford and New York: Oxford University Press, 2010).
. В тяжелых случаях эпилепсии иногда помогает перерезание мозолистого тела , соединяющего правое и левое полушария человеческого мозга. После подобных операций люди обычно ведут себя вполне нормально, и понадобилось немало времени, чтобы исследователи заметили нечто необычное. Но если разным половинкам мозга такого пациента предъявить разные стимулы, нередко проявляется поразительная разобщенность. Операция словно бы породила две разумных личности, с разными навыками и опытом, в одной голове. Левое полушарие мозга, как правило (хотя бывают исключения), ответственно за речь, и когда вы разговариваете с пациентом, у которого рассечено мозолистое тело, отвечает вам именно левое полушарие. Хотя правое полушарие обычно неспособно к речи, оно может управлять левой рукой. Поэтому оно может выбирать предметы на ощупь или рисовать. В ходе различных экспериментов каждому полушарию предъявляются разные изображения. Если затем спросить человека, что он видел, он сумеет описать словами то, что показывали левому полушарию, но правое полушарие, управляющее левой рукой, может не согласиться. Это специфическое расщепление восприятия, наблюдаемое у людей с рассеченным мозгом, для многих животных — привычное свойство их повседневной жизни.
Животные располагают множеством способов справляться с этим затруднением. У птиц входящая зрительная информация может быть еще больше раздроблена, чем у участников экспериментов с закрыванием глаза, о которых я писал выше. Например, у голубей сетчатка каждого глаза имеет два раздельных «поля» — красное и желтое. Красное поле видит небольшую пространственную зону впереди, в которой зрение птицы бинокулярно, тогда как желтое поле видит больший сектор, недоступный другому глазу. Голуби не только провалили тест на передачу информации между глазами — у них также плохо передавалась информация между разными областями одного и того же глаза. Это может объяснять некоторые специфические особенности поведения птиц. Мэриан Докинз провела простой опыт, в котором курам показывали новый предмет (красный игрушечный молоточек) [102] Marian Dawkins, «What Are Birds Looking at? Head Movements and Eye Use in Chickens», Animal Behaviour, 63, no. 5 (2002): 991–998.
. Кур подпускали к нему, позволяя рассмотреть его. Исследовательница обнаружила, что куры подходят к такому объекту, используя челночные движения, как будто бы специально для того, чтобы разглядеть его разными частями каждого глаза. Очевидно, именно так мозг в целом получает образ объекта. Птичий снующий взгляд — это техника, призванная распределять входящую информацию.
В некотором отношении единство обязательно для живого актора: животное — это целостный физический объект, который должен поддерживать в себе жизнь. Но в других отношениях единство — дополнительная возможность, достижение, изобретение. Объединение опыта — хотя бы информации, получаемой от двух глаз, — не входит в обязательную программу эволюции.
Позднее пришествие или трансформация?
История, которую я пытаюсь рассказать, повествует о плавности изменений: по мере того как усложнялись чувства, действия и память, с ними усложнялось и переживание опыта. Наш собственный пример показывает, что субъективный опыт не подчиняется принципу «либо есть, либо нет». Нам известны полусознательные состояния различного рода — такие как пробуждение от сна. Эволюция подразумевает пробуждение в других временны́х масштабах [103] Существует и третья масштабная линейка — индивидуальное развитие (онтогенез). См. книгу: Alison Gopnik, The Philosophical Baby: What Children’s Minds Tell Us About Truth, Love, and the Meaning of Life (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2009).
.
Но, возможно, все эти рассуждения ошибочны. Постепенное развитие субъективности из простых древних форм — это лишь один вариант, причем самые достоверные данные, которые у нас имеются на этот счет, свидетельствуют как раз против этого варианта — данные о нашем собственном мозге. Одну из возможностей такой точки зрения открывает несчастный случай 1988 года — отравление женщины угарным газом из-за неисправного водогрейного котла в душе. У пациентки, известной лишь по инициалам Д. Ф., серьезно пострадал мозг. В результате отравления она почти ослепла. Она перестала воспринимать форму и расположение предметов в поле зрения. Она видела лишь смутные цветные пятна. И все же оказалось, что она сохранила способность вполне успешно оперировать предметами в пространстве вокруг себя. Например, она могла засовывать письма в почтовый ящик, причем щель ящика могла располагаться под разными углами. Однако она не могла описать расположение щели или указать на нее пальцем. С точки зрения субъективного опыта она вообще не могла различить, где у ящика щель, и все же письмо туда попадало.
Д. Ф. тщательно обследовали специалисты по зрению — Дэвид Мильнер и Мелвин Гудейл [104] См. (непреднамеренная игра слов!) их книгу: David Milner and Melvyn Goodale, Sight Unseen: An Exploration of Conscious and Unconscious Vision (Oxford and New York: Oxford University Press, 2005). Здесь уместно упомянуть любопытные критические соображения, высказанных по поводу работ, на которые я здесь опираюсь, — относительно того, какие процессы считать «бессознательными». Не слишком ли «цифровой» характер придается в этой книги сознательности — в том смысле, что она либо есть, либо нет? Возможно, ее природу стоит рассматривать как аналоговую, и в таком случае нужны какие-то иные методы сбора информации и отчета о результатах. См. Morten Overgaard et al., «Is Conscious Perception Gradual or Dichotomous? A Comparison of Report Methodologies During a Visual Task», Consciousness and Cognition, 15 (2006): 700–708.
. Сопоставив ее случай с другими типами повреждений мозга и предыдущими анатомическими исследованиями, Мильнер и Гудейл выдвинули теорию, объясняющую, что происходит — как в норме, так и в особых случаях наподобие Д. Ф. Они утверждают, что существуют два параллельных «канала», по которым мозг пропускает информацию. Вентральный канал , проходящий в мозгу ниже, отвечает за категоризацию, распознавание и описание объектов. Дорсальный канал , проходящий над ним, ближе к макушке, отвечает за навигацию в пространстве в режиме реального времени (помогая обходить препятствия, просовывать письмо в ящик и т. д.). Мильнер и Гудейл полагают, что наш субъективный опыт зрения, визуальное восприятие мира, поступает только через вентральный канал. Дорсальный же выполняет свою функцию бессознательно, что у нас, что у Д. Ф. После отравления у Д. Ф. разрушился вентральный канал, и потому она чувствовала, что почти не видит, — несмотря на то что могла обойти препятствие.
Интервал:
Закладка: