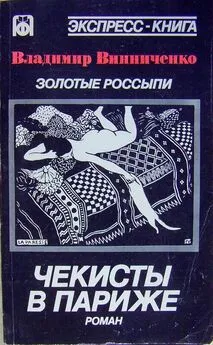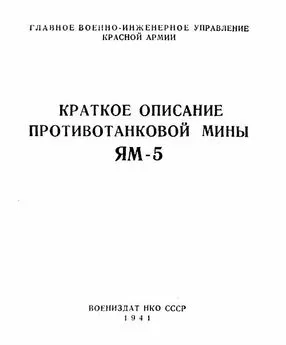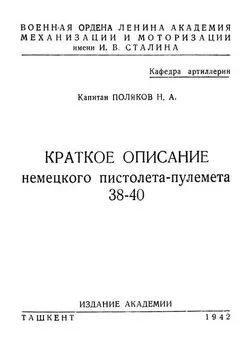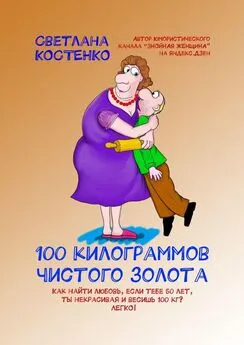Рифаа Тахтави - Извлечение чистого золота из краткого описания Парижа, или Драгоценный диван сведений о Париже
- Название:Извлечение чистого золота из краткого описания Парижа, или Драгоценный диван сведений о Париже
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-02-036873-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Рифаа Тахтави - Извлечение чистого золота из краткого описания Парижа, или Драгоценный диван сведений о Париже краткое содержание
Для широкого круга читателей.
Извлечение чистого золота из краткого описания Парижа, или Драгоценный диван сведений о Париже - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И как бы ни нравился Рифа‘а Париж своим благоустройством, в Египте и бани лучше, и фрукты вкуснее, и Каир мог бы стать «султаном городов», если его слегка почистить, и вообще, «Египет — прародина мира». Рассказывая о выставленных в Париже египетских древностях — культурных «трофеях» экспедиции Бонапарта, он, с одной стороны, замечает, что «подобные вещи французы забирают задаром, однако знают им цену, умеют их хранить и изучают с большой пользой», а с другой — расценивает вывоз памятников древнеегипетской культуры в Европу как грабеж, похищение чужих драгоценностей с целью украсить ими себя, и утверждает, что Египту, ставшему сейчас подобно европейским странам, на путь цивилизации и просвещения, по праву принадлежит драгоценное наследие, оставленное предками. В этих словах формулируется мысль о культурно-исторической значимости для современного Египта не только мусульманского, но и древнеегипетского наследия. Столкновение с «другим», более цивилизованным, но чужим ему миром обостряет патриотические чувства ат-Тахтави, побуждает его особенно подчеркивать достоинства своей страны и культуры; любовь к родине перерастает в осознанный патриотизм. Позже ат-Тахтави выразит это свое новое личностное самосознание в стихах, названных им патриотическими — манзума ватаниййа:
Любовь к родине — украшение разумного.
Любовь к родине — достоинство народа, твердого в вере.
Ватан — родина, отчизна — у ат-Тахтави нечто большее, нежели маскат ар-ра'с — место падения головы, у ал-Макризи. Ватан — это пространство, где родился и живет целый народ. И каждый, кто любит родину, должен служить ей, заботиться о ее благе — ради этого и пишется книга. Патриотизм, неотделимый, в глазах ат-Тахтави, от веры, формирует новые национальные и гражданственные идеалы. С именем ат-Тахтави связывают зарождение египетского патриотизма как идеологии. Вера входит в нее неотъемлемой частью. Лишь к началу XX столетия, когда получил распространение лозунг «Египет для египтян!», объединяющий в понятии «египтяне» и мусульман и коптов, и вызрела идея «египетской нации» (ал-умма ал-мисриййа), корни которой возводятся к эпохе Древнего Египта, чему в немалой степени способствовали археологические находки в Долине Нила, религиозная принадлежность и национальное самосознание постепенно перестают восприниматься как идентичные понятия.
В становлении регионального египетского национализма важнейшую роль сыграло фактическое обретение Египтом при Мухаммаде ‘Али, албанца по происхождению, собственной государственности. Этого не произошло в соседней Сирии, остававшейся в XIX в. под прямым правлением османских властей. Сирийское просветительство развивалось, в отличие от египетского, не в рамках целенаправленной государственной политики, а усилиями частных лиц, богатых и просвещенных предпринимателей, преимущественно христиан, поддерживающих деловые связи с Европой, и при активном содействии американских и европейских миссионеров. И если у ат-Тахтави понятие прав личности тесно связано с идеей национальной — независимого и современного государства, и с идеей конституционной, то для Ахмада Фариса аш-Шидйака, автора другого выдающегося памятника арабской просветительской литературы «Шаг за шагом вслед за Фарйаком» («ас-Сак ‘ала-с-сак фи ма хува ал-Фарйак», 1855), права личности — это прежде всего индивидуальная свобода, открывающая частному лицу возможность зарабатывать на жизнь интеллектуальным трудом и не зависеть от щедрости и вкусов мецената, неважно восточного или европейского. И если ат-Тахтави сознает себя мусульманином и египтянином, то аш-Шидйак в своем диалоге с Западом — он побывал в Египте, в Тунисе, жил на Мальте, во Франции, в Англии — предстает не как сириец или ливанец (хотя он с нежностью вспоминает свою родную деревушку в горах Ливана), а как араб и человек Востока. Вероисповедный же момент, конфессиональные различия не имеют для него существенного значения. Приспособляясь к жизненным обстоятельствам, маронит аш-Шидйак сначала переходит в протестанство, а затем принимает ислам.
Иной тип личностного — в данном случае нельзя сказать «национального» или даже «регионального», скорее «местнического» — самосознания автора обнаруживает сочинение некоего купца из Халаба, в котором он описывает свою поездку в Дамаск, «Снятие покрывала с обстоятельств Дамаска Сирийского» («Кашф ал-лисам ‘ан ахвал ахл аш-Шам», 1893; рус. пер. см.: Микульский ). Купец, правоверный суннит, сравнивает достоинства (фада'ил) двух крупнейших торгово-ремесленных и культурных центров Сирии, изолированных один от другого в османскую эпоху, — Халаба и Дамаска. По всем статьям — климат, воздух, вода, овощи, фрукты и другие продукты, а также производимые товары, архитектурные памятники, рынки, нравы горожан и арабский язык, на котором они разговаривают, — Халаб, в его глазах, безусловно превосходит Дамаск. Среди немногих, признаваемых автором, достоинств Дамаска обозначены лишь «приятные для прогулок» общественные сады, железная дорога и великолепная мечеть Омейадов, а также то, что город упомянут в священных писаниях, почитаемых «небесными» религиями, что он служит местом сбора паломников, отправляющихся в Мекку, и, наконец, что в нем расквартировано командование Пятого корпуса османской армии. Включение последнего обстоятельства в число «достоинств» Дамаска выдает в патриоте Халаба вполне лояльного подданного Османской империи.
Культурный диалог Египта с Европой происходил с самого начала на «государственном» уровне и был именно диалогом, а не односторонним заимствованием «полезных» знаний. Таковыми считались технические новшества, и они охотно и довольно быстро переносились на египетскую почву. Идеи же, тем более «сомнительные», наталкивались на прочный барьер традиционных, глубоко укорененных в сознании даже таких людей, как ат-Тахтави, представлений, являвшихся фундаментом духовности, основой самоуважения и предметом гордости восточного человека. Эти собственные ценности Рифа‘а и пытается противопоставить обаянию европейской культуры, даже если в глубине души и сознает правоту французских ученых.
Французское законодательство произвело глубокое впечатление на ат-Тахтави. Многие статьи «Хартии» он находит мудрыми, особенно провозглашающие равенство всех французов, в том числе и короля, перед законом, гарантирующие защиту прав и богатых и бедных. А статьи, упорядочивающие налоги и сборы с населения, вызывают у него нескрываемую зависть, и Рифа‘а высказывает предположение, что истоки этой статьи заложены в шариате, «в некоторых положениях ханафизма». Во французских законах он видит воплощение того стремления французов к свободе и справедливости, которое «искони было присуще и арабам». Доказательствами служат рассыпанные по тексту книги цитаты из арабской поэзии, в которых осуждаются властители-тираны. Конституционная монархия, регулирующая отношения правителя и подданных, их взаимные права и обязанности, представляется ему общественным устройством, которое наилучшим образом обеспечивает процветание государства и благоденствие его жителей. Именно в нарушении королем «Хартии» — договора между ним и его подданными — Рифа‘а усматривает причину революции 1830 г. Июльские события в Париже, свидетелем которых он стал, описаны с большим сочувствием к «противникам тирании» и к восставшему народу. Но и мягкий приговор суда министрам Карла X, поддержавшим противозаконные королевские указы, он оценивает одобрительно, как доказательство цивилизованности французов и справедливости их государственного устройства. Считая, правда, при этом, что «абсолютной справедливости» нигде в мире быть не может. Он доходчиво объясняет своим читателям разницу между титулом «короля Франции», предполагающим божественное происхождение королевской власти, и данным Луи Филиппу титулом «короля французов», свидетельствующим, что он получил власть из рук подданных, хотя, опять-таки, считает, что в странах Востока эта разница несущественна. В позднейших своих сочинениях ат-Тахтави постоянно пропагандировал европейские формы общественного устройства, высшей из которых считал конституционную монархию (в противовес теократической монархии Османской империи) при сильной и независимой государственности (что соответствовало основному направлению политики Мухаммада ‘Али). И не случайно первым произведением французской художественной литературы, выбранным им для перевода на арабский язык, стал просветительский роман аббата Фенелона «Приключения Телемака» (1694), написанный автором для внука короля Людовика XIV в целях воспитания будущего просвещенного монарха. В романе сравниваются различные формы государственного устройства и содержится критика абсолютизма.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: