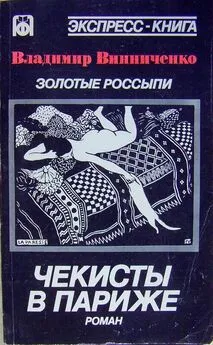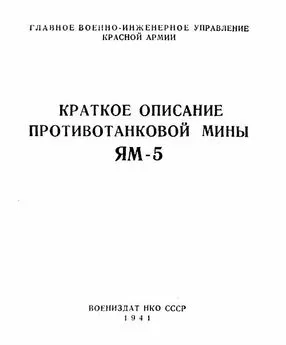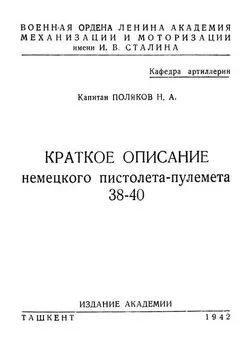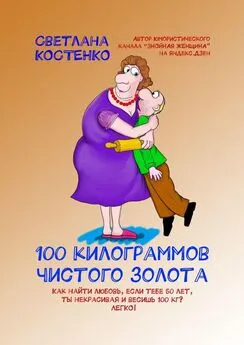Рифаа Тахтави - Извлечение чистого золота из краткого описания Парижа, или Драгоценный диван сведений о Париже
- Название:Извлечение чистого золота из краткого описания Парижа, или Драгоценный диван сведений о Париже
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-02-036873-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Рифаа Тахтави - Извлечение чистого золота из краткого описания Парижа, или Драгоценный диван сведений о Париже краткое содержание
Для широкого круга читателей.
Извлечение чистого золота из краткого описания Парижа, или Драгоценный диван сведений о Париже - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Пожалуй, наиболее традиционной частью «Извлечения чистого золота из краткого описания Парижа» — помимо самого названия книги — является Вступление, хутба, написанная, без сомнения, после возвращения в Каир, непосредственно перед публикацией книги. Изначально хутбой называлась проповедь, произносимая во время коллективной пятничной молитвы, в которой полагалось упомянуть имя здравствующего правителя. Первой хутбой в исламе многие мусульманские авторитеты считают проповедь, с которой пророк обратился к мусульманам в ходе первого пятничного моления в Йасрибе, во время хиджры-переселения Мухаммада из Мекки в Медину ( Большаков 1989, 91). Позднее хутбой стало называться и вступление к литературному или научному сочинению. В нем обычно излагались причины, побудившие автора к его написанию, возносилась здравица правящему лицу и упоминался человек или люди, подвигшие автора на труд, — меценат, друг, учитель. Обозначались также цели, которые ставил себе сочинитель, и выражались сомнения в том, что его скромные возможности позволят ему эти цели осуществить в полной мере.
Рифа‘а не жалеет эпитетов для восхваления «Благодетеля» Мухаммада ‘Али, от которого полностью зависит будущая судьба книги и ее автора, и даже переходит на высокопарный садж. В числе главных заслуг паши он называет «возрождение наук» и военные походы, в результате которых были отвоеваны у Османской империи Сирия, Хиджаз и Судан. Тут явно дают себя знать и ал-азхарская школа, и два года армейской службы Рифа‘а: он искренне убежден в том, что будущее Египта зависит от овладения новыми знаниями и что науки развиваются лишь благодаря заботе правителей, а служба в новой, египетской, армии пробудила в нем чувство патриотизма, и его вдохновляют победы египетского оружия. Поэтому панегирики «чуду правителей нашего и всех времен» нельзя, видимо, считать лишь данью традиции.
О Хасане ал-‘Аттаре в той же хутбе говорится совсем другим тоном, как о человеке не только уважаемом, но и хорошо знакомом, близком автору. Рифа‘а называет своего учителя ‘аллама, т. е. выдающимся ученым, и тут же сообщает, что он «большой охотник до рассказов обо всем удивительном и чудесном» и что именно учитель подсказал ученику мысль записывать все, что тому «доведется увидеть из диковинного и необыкновенного». В тексте книги автор то и дело напоминает, что в Париже посланцы Мухаммада ‘Али выполняли задачи, поставленные перед ними «Благодетелем», но в последних строках указывает, не называя его имени, на ал-‘Аттара как на наиболее компетентного судью, способного оценить по достоинству все изложенное на ее страницах.
Себя Рифа‘а именует, как того требует традиция, «смиренным рабом», однако по поводу значимости своего сочинения не высказывает никаких сомнений, напротив, подчеркивает его важность и пользу для всех народов ислама и настоятельно советует соотечественникам ознакомиться с книгой, «изобилующей перлами полезных сведений». Единственное, он предупреждает читателей, что во многих случаях пишет о вещах, которые могут вызвать с их стороны возражения или неприятие, но его цель — «просто сообщить о них». В этих словах прочитывается желание заранее отвести от себя вероятные обвинения в нарушении уложений шариата.
Столь же традиционно — с доисламских времен, когда одной из функций поэзии было сохранение исторической памяти, — цитирование стихов в прозаическом тексте. Функция стихотворных цитат зависит от жанра текста и времени его создания. В сочинении ат-Тахтави, продолжающем традицию научной арабской прозы, стихи других поэтов чаще всего приводятся в подкрепление мысли, высказанной автором: в богатейшем репертуаре мотивов арабской поэзии он всегда находит нужные ему смыслы, а иногда пользуется и методом «от противного», в частности, когда приводит «антинаучную» касыду ал-‘Амили и выражает свое несогласие с поэтом. Бедуинских поэтов («чистокровных» арабов) и ал-Мутанабби Рифа‘а цитирует, доказывая исконное «благородство» и высокие моральные качества арабов. Автора «украшенных», изобилующих словесными фигурами стихов Сафи ад-Дина ал-Хилли (1278—1349), а также свое стихотворение, в котором использованы термины хадисоведения, — в доказательство невозможности адекватного перевода арабской поэзии на другие языки. В большей же части собственных стихов автор выражает владеющие им настроения и чувства, его отношение к увиденному во Франции. Тут и панегирики «Благодетелю», ал-Азхару и его ученым, признания в любви к родине-Египту, а также любовные стихи, в которых поэт демонстрирует свое версификационное мастерство. Приводит он и стихи своих современников, коллег по ал-Азхару, содержащие отклики на события египетской истории времени правления Мухаммада ‘Али. Стихотворные вставки, излишне обильные, на вкус Сильвестра де Саси, привносят в его повествование традиционно свойственный арабской географической литературе элемент «художественности».
С французской поэзией он знакомился, по-видимому, бегло, а в качестве примеров приводит почему-то несколько переведенных им стихотворений офранцузившегося египтянина хаваги Йа‘куба (Жозефа Агуба). То ли из доброго отношения к поэту, преподававшему ему в Париже французский язык, то ли из соображений уместности этих стихов в контексте книги — в их числе панегирик Мухаммаду ‘Али. В любом случае хаваге Йа‘кубу достается роль посредника между французской и арабской поэзией — его стихи в оригинале написаны по-французски, но он не следует, как французские поэты, «языческой традиции греков, обожествляющих все прекрасное», а это главный упрек, адресуемый ат-Тахтави всей французской литературе, который он, правда, смягчает, утверждая, что «на самом деле они так не думают, и все это говорится в переносном смысле». И не только смягчает упрек, но и там же, в Париже, переводит на арабский брошюру «Греческая мифология».
Обязательным элементом средневековой арабской рихли было описание «чудес и диковин» тех стран, в которых побывал путешественник. Из перечисления «чудес и диковин», привлекших внимание ат-Тахтави во Франции, видно, сколь разительно новой оказалась для молодого араба европейская культура быта.
«Чудеса» начались еще в Марселе: столы, стулья, столовые приборы, порядок застолья (оказывается, нельзя есть руками и пить из чужого стакана!), высокие кровати — все было непривычным и удивительным. Удивление вызвали и увешанные зеркалами богатые городские кафе, еще большее — наряды и поведение француженок. В ходе дальнейшего повествования Рифа‘а неоднократно возвращается к вопросу о положении женщины во Франции, который уже в то время занимал умы его соотечественников (в Заключении к книге ат-Тахтави пишет: «Поскольку люди задают много вопросов о положении женщин у франков, мы прояснили это положение»). Очевидно, что тема волнует и самого автора, даже в силу его возраста — не забудем, что в год приезда во Францию шейху было всего 25 лет. И в «женском вопросе» он занимает гораздо более мягкую позицию по сравнению с высказанной ал-Джабарти в его хронике. Историк был категорическим противником любых перемен в положении женщин и без всякого сожаления описывает те, нередко жестокие, наказания, которым подверглись «забывшие всякую скромность, стыд и приличия» ( Джабарти 1962, 409) египтянки, замеченные в связях с французами, после ухода последних из Египта. Правда, сами египтянки — во всяком случае, женщины из высших слоев общества — по достоинству оценили куртуазные манеры французских офицеров. Врач-француз Клот-бей, занимавшийся организацией здравоохранения в Египте при Мухаммаде ‘Али, цитирует в своей книге о Египте рассказ Наполеона из его «Записок» о том, как жительницы города Розетты направили ему (султану кебиру) петицию, требуя, чтобы их мужья обходились с ними так же, как обходится со своей супругой генерал Мену, женившийся на дочери одного из знатных людей Розетты ( Клот-бей, 266). Луис ‘Авад, ссылаясь на другие французские источники, упоминает о демонстрации женщин Розетты, требовавших от Мену, бывшего тогда комендантом города, чтобы он приказал мужьям разрешить женам посещать городские бани ( ‘Авад, 2, 32). Как бы то ни было, акция розеттских жительниц явилась первым в истории Египта выступлением женщин в защиту своих прав.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: