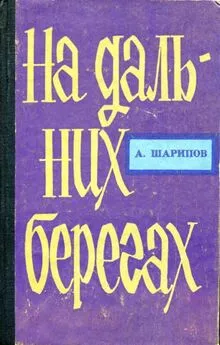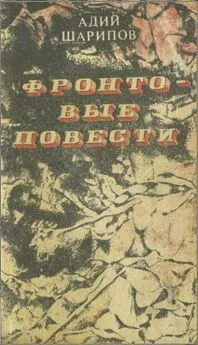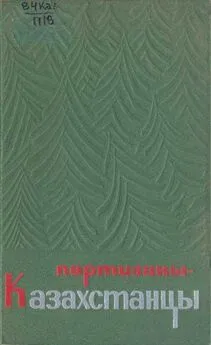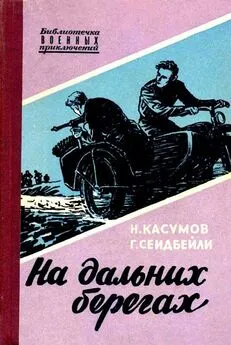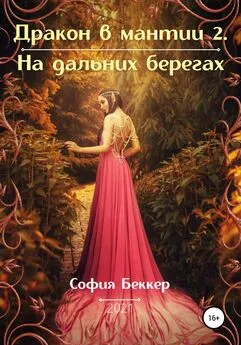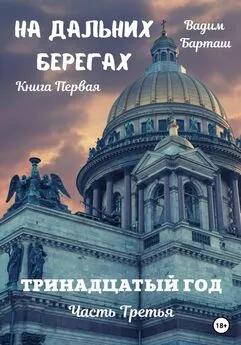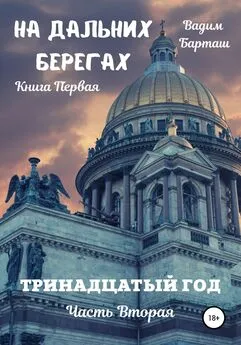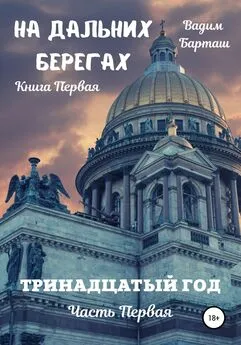Адий Шарипов - На дальних берегах
- Название:На дальних берегах
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Жазушы
- Год:1971
- Город:Алма-Ата
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Адий Шарипов - На дальних берегах краткое содержание
Путевые очерки казахского писателя А. Шарипова помогут советским людям ближе и достовернее взглянуть на историческое прошлое свободолюбивых народов, познакомиться со злободневными проблемами их сегодняшнего развития, помогут глубже понять национальные особенности стран, вступивших на путь социалистического строительства.
На дальних берегах - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мне вновь пришли на память рассказы о том, что старинный Сен-Луи является своеобразной цитаделью патриархальных мусульманских обычаев. Вот, доказательство налицо: женщинам нет места в собрании мужчин, а мужчины, как правоверные мусульмане, презирают спиртное.
Рядом со мной за столом сидели довольно молодые, но очень сдержанные люди. Когда нас знакомили, они отрекомендовались, как деловые люди, занимающиеся торговлей.
Быт и нравы жителей Сен-Луи чрезвычайно интересовали меня. В Дакаре, как я заметил, тоже имелись семьи, в которых царили древние обычаи. Однако там на приемах присутствовало множество женщин, причем в европейском платье. Неужели Сен-Луи так консервативен?
Мой сосед, молодой толстощекий торговец в новенькой феске с кисточкой, охотно принялся отвечать на мои расспросы. Да, он женат, у него четыре жены и двенадцать детей. Нет, нет, каждая жена живет в отдельной комнате. Жены сосуществуют мирно, со смехом сказал он, за порядком во всем следит старшая жена. Она же, если можно так сказать, регламентирует внимание мужа к каждой из жен, — скажем, устанавливает, что каждой из них муж уделяет два дня. И в доме, в семье, царит мир и порядок.
В Дакаре, в гостинице Косты Сарикова, я как-то разговорился о житье-бытье с коридорным, очень почтительным средних лет мужчиной. Сам Коста Сариков хвалил его за исполнительность и аккуратность. За шестнадцать лет, что работает коридорный в «Долепе», хозяин гостиницы не имел случая сделать ему выговор. Словом, образцовый слуга. Коридорному было сорок четыре года. У него три жены и девять детей. Естественно, я поинтересовался, как он, имея столько иждивенцев, сводит концы с концами. Старшая жена, ответил он, с шестью детьми живет в селе, они там сами добывают себе пропитание. С ним же в городе живут две жены и трое детей. Трудно, конечно, но все же удается перебиваться. На мой вопрос, не работают ли жены, коридорный лишь изумленно вытаращил глаза, и я понял, что подобные вопросы звучат для правоверного мусульманина по меньшей мере нелепо.
Так что со своими собеседниками в Сен-Луи я таких вопросов избегал.
Беседа в нашей группе текла все оживленней. Молодой торговец и его сосед, включившийся в наш разговор, рассказывали, что по местным обычаям жених и невеста не знают друг друга до дня свадьбы. Сводят и хлопочут со сватовством старшие братья или сестры, родители. Ну, естественно, за невесту выплачивают выкуп.
— А если невеста вдруг не понравится жениху? Что тогда? — поинтересовался я.
— Нет, этого не может быть! — ответил мой собеседник с таким убеждением, что настаивать на своих расспросах мне показалось просто неудобным.
На свадьбе, как рассказывали мне, бьют барабаны, гости поют, затевают игры. И никогда не пьют. Никогда.
…В одиннадцать часов начался разъезд. Мы проводили гостей и вместе с Д. С. Никифоровым отправились в свои номера. Дмитрий Семенович сказал, что Абдулай Диоп производит впечатление очень искреннего человека и очень дружественно к нам настроенного. Мне издатель тоже понравился. После того как деликатный Жан Бриер отказался от приглашения приехать в Москву на симпозиум переводчиков советской литературы, у меня крепло желание обратиться с таким предложением к Абдулаю Диопу. Посол поддержал эту мысль. По его мнению, издатель отнесется к нашему предложению с большой радостью.
Так оно и оказалось. Диоп сердечно поблагодарил нас за оказанную честь и уверял, что поездка в Москву позволит ему найти новые пути для популяризации литературы страны победившего социализма.
Посольская «Чайка» с красным флажком на радиаторе стремительно несется по центральной авениде сенегальской столицы. В опущенные окна врывается прохладный утренний ветерок. Полицейские на перекрестках, в белой форме, перетянутые ремнями, четко поворачиваются и салютуют. Многочисленные прохожие в длинных одеждах, с поклажей на голове останавливаются и провожают взглядами проносящийся по самой оси улицы черный посольский лимузин.
Прием в президентском дворце назначен на девять часов. За три минуты до указанного времени «Чайка» въезжает в распахнутые кованые ворота президентской резиденции и останавливается у подъезда. Нас встречает учтивый молодой человек и предлагает пройти в небольшой белоснежный особняк рядом с дворцом. Там, в особняке, президент обычно принимает гостей.
Нашу небольшую группу возглавляет посол Д. С. Никифоров. У него та благородная представительная осанка, которая вырабатывается годами дипломатической службы. Прическа, галстук, безукоризненный покрой костюма, белые кромки манжет, выглядывающие из рукавов как раз на положенные сантиметры, а главное, сдержанные манеры и неторопливая походка — все полно какой-то значительности и заставляет невольно подражать.
В сопровождении молодого человека мы поднимаемся по ковровой лестнице на второй этаж.
— Сюда, пожалуйста, — подсказывает он, открывая большие двери.
Леопольд Седар Сенгор не только государственный деятель Сенегала, но и выдающийся поэт. Воспитанник парижской Сорбонны, он долгое время работал там преподавателем. Еще в молодые годы Сенгор услышал имя человека, создавшего целую эпоху в борьбе народа против колониального владычества. Впоследствии он познакомился и с его трудами. И нам, советским людям, конечно же было радостно узнать, что совсем недавно на одной из своих пресс-конференций сенегальский президент отметил, что «гений В. И. Ленина оставил неизгладимый след в истории человечества».
В своем творчестве Леопольд Сенгор избегает всяческого индивидуалистического самокопания, его поэзия полна реалистических земных образов, в своей основе она глубоко народна, и поэтому имя президента-поэта или, наоборот, поэта-президента по праву занимает первое место среди сенегальских литераторов и пользуется широкой известностью у европейского читателя.
Наша новая доблесть не в том, чтобы властвовать,
А в том, чтобы стать ритмом и сердцем народа,
Не в том, чтобы лелеять землю, а в том, чтобы
в ней умереть, а потом прорасти, словно
зернышко проса,
Быть не главою народа, но устами его и трубой.
Эти строки из стихотворения Сенгора «Заглавная песнь» можно вынести эпиграфом ко всему творчеству большого поэта.
— Господа, президент просит вас! — негромко, но внятно произнес молодой человек, появляясь в приемной.
Президент встретил нас на пороге кабинета. В прошлый свой приезд я видел Сенгора на президентском приеме, находясь в общей массе многочисленных гостей. Теперь, обмениваясь рукопожатием, я запоминаю его сухую, не очень крепкую руку и дружеский взгляд внимательных глаз.
Сенгору уже за шестьдесят, он невысок ростом, в массивных очках. Дмитрий Семенович представил меня как писателя и депутата советского парламента. Обойдя большой стол, за которым он занимался, президент прошел в угол кабинета и указал нам на покойные глубокие кресла.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: