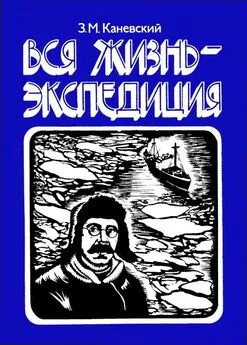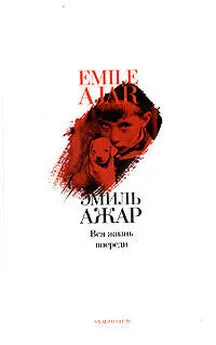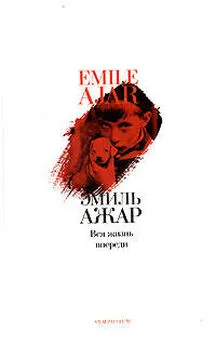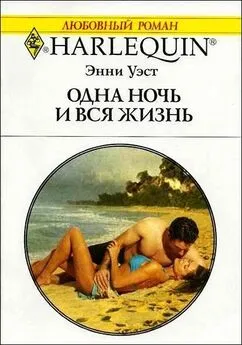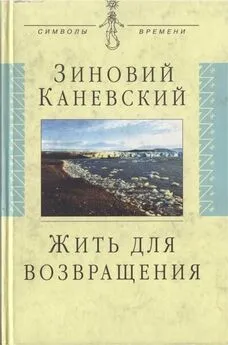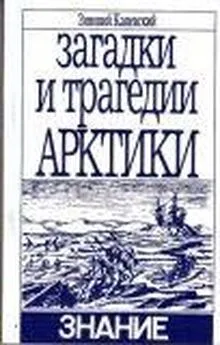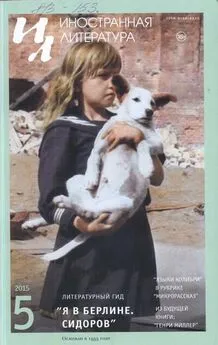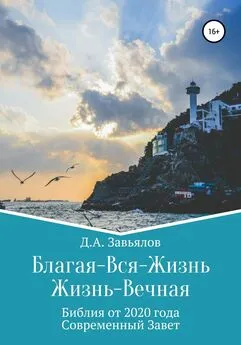Зиновий Каневский - Вся жизнь - экспедиция
- Название:Вся жизнь - экспедиция
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мысль
- Год:1982
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Зиновий Каневский - Вся жизнь - экспедиция краткое содержание
Вся жизнь - экспедиция - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Экспедиция должна была изучить возможность использования так называемого северного варианта трассы Северного морского пути (в обход Новосибирских островов), исследовать район проникновения с запада струй Гольфстрима, уточнить характер и очертания материковой отмели, обследовать два моря — Лаптевых и Восточно-Сибирское, испытать поведение корпуса судна во льдах, не говоря уже, естественно, о комплексе всевозможных гидрометеорологических наблюдений.
Из-за непреодолимых сложностей на трассе в восточные моря Арктики «Садко» так и не попал, но участники экспедиции неплохо поработали в Баренцевом (Самойлович предусмотрел запасной «западный» вариант). Ученые собрали геологические коллекции в проливе Маточкин Шар, описали восточные берега Земли Франца-Иосифа и основательно уточнили карту этого архипелага, измерили силу тяжести Земли (с помощью единственного в стране прибора). Однако вскоре последовал приказ переключиться на помощь грузовым судам, оказавшимся во льдах на трассе.
Самойлович настаивал на продолжении экспедиции, слал радиограммы начальству, уговаривал капитана. Он подолгу стоял рядом с ним на мостике, однако командовал судном все-таки капитан. «Садко» был далеко не в лучшей форме, льды изранили судно, появилась течь. Рудольф Лазаревич умолял капитана подойти хотя бы к острову Виктории, нашей западной государственной арктической границе, но Николай Иванович Хромцов сказал решительное «нет». Не желая рисковать судном, он взял курс на Мурманск.
Самойлович был очень огорчен таким решением капитана, поскольку теперь ему был дорог каждый полевой сезон, ибо никто не мог сказать, сколько таких сезонов у него в запасе… Ему исполнилось 55 лет, все чаще давало знать о себе сердце, а было столько задумано!
Он уже отдал Арктике четверть века жизни. И все эти годы были так или иначе связаны с морем: по морю он плавал к полярным архипелагам, в море спасал погибающих, в море работал в составе научных экспедиций. Правда, были в его жизни несколько суток, точнее сказать, 106 часов, когда он невольно изменил морю во имя другой стихии, воздушной, и тот краткий «зигзаг» также вошел в историю Арктики, в историю всей науки.
В гондоле надо льдами
Осталось невыясненным, летал ли Рудольф Лазаревич в 20-х годах на самолете. Если и летал, то почти наверняка не над Арктикой. И уж наверняка он не летал на дирижабле вплоть до июля 1931 года. А в июле — полетел.
Для Крайнего Севера XX столетие поначалу стало веком дирижабля, а не самолета. Отставной немецкий кавалерийский генерал граф Фердинанд Цеппелин создал воздушный корабль, получивший его имя. «Цеппелины» активно участвовали в первой мировой войне, после же войны решено было использовать их в научных целях, в частности в Арктике.
В 1924 году по инициативе Нансена было создано международное общество по изучению Арктики с воздуха — «Аэроарктика». Советские полярники, и в их числе Самойлович, приняли активнейшее участие в деятельности общества. Ведь в 1914 году состоялся первый в истории человечества арктический полет российского летчика Яна Иосифовича Нагурского, именно в нашей стране бурно прогрессировала полярная авиация, ставшая очень скоро центральным звеном многих последующих операций на трассе Северного морского пути и в Центральной Арктике. Однако в самой «Аэроарктике» не без влияния ее авторитетного президента Нансена преобладало убеждение, что наилучшим транспортным средством для проникновения в высокие широты является не самолет, а дирижабль.
У нас эта идея также завоевала немало сторонников. Еще в 1925 году, когда Нансен вел в Москве переговоры о будущей советской экспедиции на дирижабле (наше правительство предложило великому норвежскому полярнику возглавить этот перелет), Самойлович радировал с борта «Эльдинга», от берегов Новой Земли, одному из деятелей «Аэроарктики»: «Я употребил много старания в пользу этого предприятия». Несколькими годами позже он писал: «Состоя в президиуме «Аэроарктики», я был первым в СССР, который пропагандировал идею изучения Арктики с помощью воздушного корабля. И я был бы счастлив когда-нибудь принять участие в такой экспедиции».
После эффектного трансарктического перелета дирижабля «Норвегия» в 1926 году и закончившегося трагически рейса «Италии» в 1928 году настал черед комплексной воздушной экспедиции, целью которой были бы не рекорды, а исключительно наука. В дни, когда «Красин» пробивался ко льдине с «Красной палаткой», в Ленинграде проходила вторая конференция «Аэроарктики» (Самойлович получил на ледоколе радиограмму жены: «Танцевала с Нансеном…»). Германское правительство предложило предоставить для экспедиции в Арктику дирижабль «Граф Цеппелин». Полет планировался на 1929 год, но из-за мирового экономического кризиса его пришлось отложить на два года.
Дирижабль «Граф Цеппелин» с бортовым номером LZ-127 в начале 30-х годов считался самым мощным в мире воздушным кораблем. Высотой почти в десятиэтажный дом, длиной чуть ли не в четверть километра, с четырьмя моторами «Майбах» по 500 с лишним лошадиных сил каждый, грузоподъемностью более 20 тонн, с «персональной» электростанцией, телефонной связью, комфортабельной кают-компанией и кухней, работающей на электричестве… В июле 1931 года этот супергигант (уже совершивший к тому времени кругосветный перелет всего лишь с тремя остановками!) принял на борт в одном из германских городов международную воздушную экспедицию.
Ее возглавил доктор Гуго Эккенер, который стал президентом «Аэроарктики» после кончины Нансена. Из 46 участников 39 представляли Германию, 2 — США, 1 — Швецию и 4 — СССР. От нашей страны в полет отправлялись профессор-аэролог П. А. Молчанов, инженер-дирижаблестроитель Ф. Ф. Ассберг, радист Э. Т. Кренкель и Р. Л. Самойлович, которому было доверено научное руководство этой уникальной экспедицией.
Прошло всего три года после гибели «Италии», то и дело поступали сообщения о катастрофах с дирижаблями в обычных, отнюдь не арктических условиях (именно повышенная опасность эксплуатации дирижабля и послужила главной причиной его «отмены» в качестве транспортного средства). Что ждало «Графа Цеппелина» в воздушном пространстве над пустынной Арктикой, где не было не только ни одного аэродрома с причальной мачтой — сотни и тысячи километров отделяли там одну крошечную зимовку от другой? Что уготовит на этот раз Самойловичу судьба, ему, который совсем недавно выступал в роли спасателя экипажа итальянского дирижабля?
Сколько раз говорил он об осторожности, о необходимости для полярного исследователя всегда и во всем соблюдать чувство меры, однако сам без колебаний отправился в полет, чреватый — это понимал каждый — серьезными опасностями. Разгадка была проста: не стремление к авантюре, к рекордсменству, к пресловутому самоутверждению, а неумолимый внутренний зов, неутоляемая страсть исследователя влекли его в неведомое, всю жизнь влекли в дальние страны, в высокие широты, а теперь увлекли в высокое небо. И писал он об этом спокойно, но одновременно горячо и откровенно: «Советские полярные исследователи не стремятся устанавливать какие-либо рекорды, перед ними стоит тяжелая, но вместе с тем возвышенная задача… Достижение полюса не может служить в настоящее время исключительной целью полярных экспедиций… Мы не хотим больше отдавать жизнь человека, хотя бы даже за самые высокие научные достижения. Мы должны, мы можем, благодаря высокому уровню современной техники, работать без жертв. На пути к полюсу не должно быть более могил!»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: