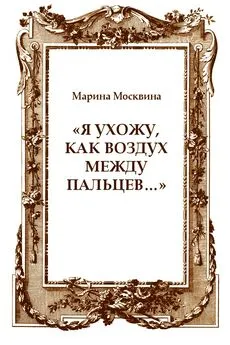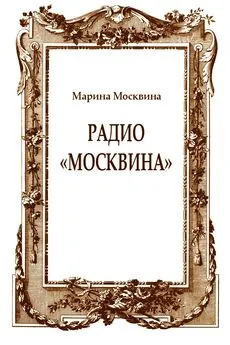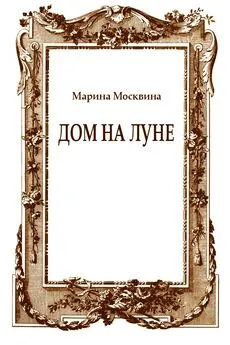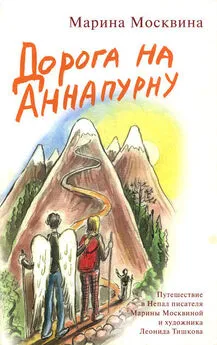Марина Москвина - Изголовье из травы
- Название:Изголовье из травы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент 1 редакция (6)
- Год:2020
- ISBN:978-5-04-106225-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марина Москвина - Изголовье из травы краткое содержание
Изголовье из травы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В лучшем случае ты ехал верхом на лошади, но чаще всего – если ты не такая уж vip-персона, которая может позволить себе путешествие в паланкине с носильщиками, – тогда шагай на своих двоих – бродячий монах, проповедник, странствующий ученый, художник, поэт, пилигрим, обдуваемый всеми ветрами, поливаемый дождями, под обжигающим солнцем и в снежную метель, а то и под градом (градины в Японии величиной с каштан, а бывает – с китайский персик!) – от одного села к другому, из одного города в другой, из одних прославленных живописных мест к другим, записывая угольком от соснового факела на скале или кисточкой на соломенных лентах шляпы строки хайку, легчайшие трехстишия, превращающие мгновение в вечность.
«И вот, перед тем, как выйти за ворота, – сообщает в своих “Записках из дорожного сундучка” бродячий поэт Басё, отправляясь в странствие со своим любимым учеником как раз в горы Ёсино, куда спустя триста лет мы с Лёней пустимся ему вослед, – я в шутку нацарапал у нас на шляпах: “Два путника, вместе вершащие путь, не имеющие дома ни на земле, ни на небе, отправились в дорогу”».
В Ёсино я тебе
Покажу цветущие вишни,
Дорожная шляпа.
В Ёсино ты увидишь
К тому же еще и меня,
Дорожная шляпа.
Давно когда-то на Новый год мне подарили трехтомник старинной японской поэзии «Манъёсю», что в переводе означает «Собрание мириад листьев». Кажется, это первая поэтическая антология в этих краях, восьмой век нашей эры.
Пятьсот поэтов раннего средневековья – прославленных, как Хитомаро, и полностью мне неизвестных, приняли в ней участие. Тут собраны стихи императоров, императриц, принцев и принцесс, любовная лирика царедворцев, генерал-губернаторов, их заместителей, жен, каких-то девиц и старух, песни судей, инспекторов, лекарей, писцов, жрецов, крестьян, солдат, монахов… Сложенные на пиру, в пути, в глубокой тоске о друге, в тоске по родным местам, о мхе, о травах, о колодце, о том, как в старости одолевают болезни… Поэмы сожаления о быстротечности жизни, предания о чудодейственных камнях, раздумья у развалин, потрясающие народные песни, особенно плачи…

И постоянно в возвышенных выражениях упоминалось там некое райское место Ёсино. «В дивной Ёсину-стране… – так кристальны реки здесь, так прекрасны склоны гор…» «Как мчатся водопады в дивном Ёсину, – не наглядеться мне!» «В этом Ёсино дивном… на верхушках зеленых деревьев, что за шум поднимают своим щебетанием птицы?» Не меньше ста раз. Прямо сказочное Лукоморье. Мэтр Хитомаро так и заявил в своем стихотворении:
Много есть чудесных стран
Но страна, где хороши
Виды чистых рек и гор,
Что влечет сердца, одна —
Это Ёсину страна!
Именно в Ёсино испокон веков ездят весной любоваться цветущими сакурами. Здесь цветет особая горная сакура – ямадзикура – белым, розовым и сиреневым цветом. Говорят, во время цветения горы утопают в лепестках цветущей вишни. У японцев есть название этому явлению: «ханами», что значит «любоваться цветами».
В начале марта все японские газеты отводят место прогнозу – где и когда на японских островах зацветет первая сакура. День ото дня этой теме журналисты уделяют все больше и больше внимания, и вот однажды, как об огромной сенсации, люди узнают, где в этом году зацвела первая сакура!
Но где бы она ни расцвела, каждый мечтает провести свое первое ханами на горе Ёсино. В Ёсино наслаждались видом цветущих сакур императоры Японии. Сюда отправлялись поэты и пилигримы. И это неудивительно. С десятого по тридцатое апреля сто пятьдесят тысяч вишневых деревьев расцветают на горе Ёсино.
« Кто был тот человек , – воскликнул когда-то поэт Фудзивара Ёсицунэ, – бросивший здесь когда-то косточки вишен и сделавший горы Ёсино весенними горами навеки…»
В окне концевого вагона убегали, сходясь, расходясь и пересекаясь, рельсы, сбоку проплывали изумрудные рисовые поля с пугалами в виде классического, бредущего по полю пилигрима – в плаще, соломенной шляпе, с бамбуковой тростью…
Народу в электричке становилось все меньше и меньше, пока на весь наш поезд осталось два паломника – мы с Лёней, три наших проводника и смешной пузатый японец в зеленой куртке, синем картузе, компас на руке, на боку фляга – взрослый парень, сидит, испуганно озирается и тревожно качает ногой.
Лёня говорит:
– Наверно, там, в Ёсино, бабушка его встретит с оладьями.
А впереди уж виднелись нежно-зеленые горы в туманной дымке – самой далекой и самой конечной станции всех железнодорожных линий на острове Хонсю – это Ёсину-страна!
Платформа была пустынной – сакуры-то отцвели! Начинались уже летние «сливовые дожди». И до того эта станция выглядела заброшенной, даже не работал пропускной автомат: просто вышел человек и вручную забрал наши билеты.
И вот, на том самом месте, где мы с Лёней выбрались с рюкзаками из электрички, триста лет назад остановился бродячий поэт Мацуо Басё, и, потрясенный, вспомнил строки, оброненные здесь поэтом Тэйсицу:
Вот это да! —
Только и скажешь,
Взглянув на горы Ёсино.
Глава 19
Изголовье из травы
Да, он шел по этой дороге, именно тут, мне почему-то это важно – в черной одежде буддийского монаха, с начисто обритой головой. В руке у него посох и четки со ста восемью бусинами. На шее висела сума, где он хранил два-три китайских и японских сборника стихов, наверняка, «Книгу о Пути и Силе» Лао-цзы, куда же без нее? Тушечницу, флейту и крошечный деревянный гонг.
На нем большая, как зонт, дорожная шляпа, такие носили священники, сплетенная из непромокаемых кипарисовых стружек, плащ из тростника, соломенные сандалии. Издалека его можно было принять за нищего, буддийского паломника или даоса, покинувшего бренный мир.
Однако при ближайшем рассмотрении, чуть ли не каждому встречному становилось ясно, что это прославленный поэт Мацуо Басё, Учитель хайкай или хокку – трехстишия, похожего на звук одинокого удара в колокол, пронизывающего душу, туманный намек – за которым таится вся глубина этого мира.
Таких людей в Японии называли «златоротыми».
За каждым его шагом с трепетом следила вся Япония.
«Птицы сорокалетья» давно прилетели к нему, а сорокалетие считается в Японии первой старостью. Он был такой хрупкий и слабый здоровьем, а пустился в столь продолжительное странствие, что тысячи его поклонников и две тысячи учеников дико переволновались за него.
Его бы могли на руках понести во все путешествия, так его любили и ценили. Но он был беглец. Он не был монахом, хотя учился дзэн. Он просто остерегался мира, понимая, что мир не даст ему непреходящего и беспредельного. А он хотел одного – ясности видения, которая достигается в одиноком странствии по безвестной дороге. В этом была для него и поэзия, и пророчество, и религия.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
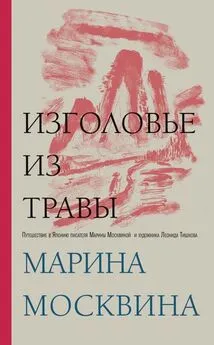

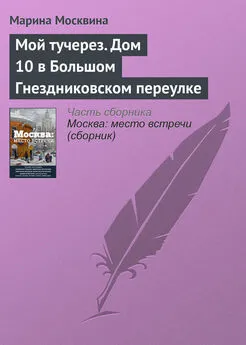
![Марина Москвина - Между нами только ночь [сборник]](/books/1077250/marina-moskvina-mezhdu-nami-tolko-noch-sbornik.webp)