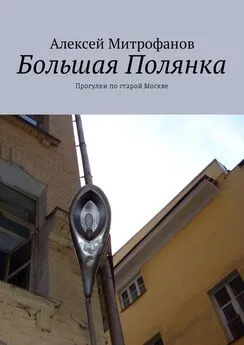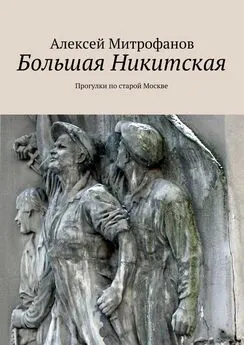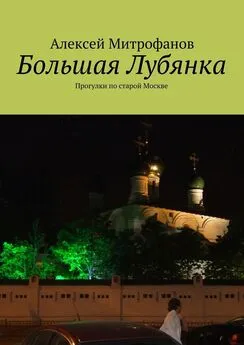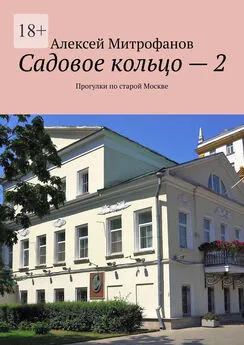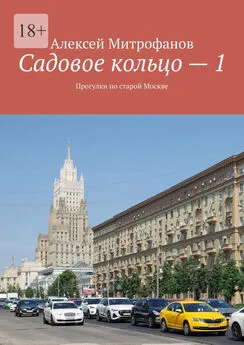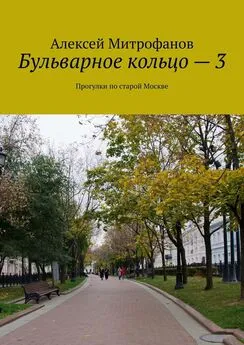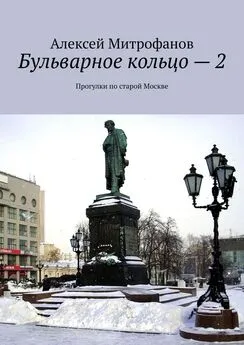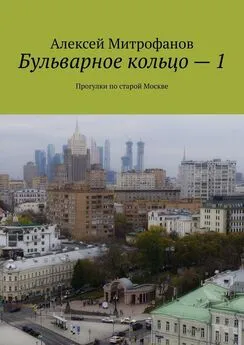Алексей Митрофанов - Большая Полянка. Прогулки по старой Москве
- Название:Большая Полянка. Прогулки по старой Москве
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-93136-064-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Митрофанов - Большая Полянка. Прогулки по старой Москве краткое содержание
Большая Полянка. Прогулки по старой Москве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Взрыв был слышен в Замоскворечье, на Мясницкой, на Сретенке. В самом же Кремле от сотрясения воздуха вылетели стекла. Одной руки великого князя не было видно вообще, а другая лежала где-то около шеи. Голова была отделена от туловища и раздроблена на мелкие кусочки. Великая княгиня Елизавета Федоровна собственноручно собирала останки своего мужа.
Место теракта сразу сделалось сакральным. Один из дореволюционных путеводителей писал о нем: «Никто не пройдет через Кремль без того, чтобы не подойти к маленькой ограде и не сотворить молитвы: „Упокой, Господи, душу раба твоего Сергия“».
И по желанию Елизаветы Федоровны на месте гибели ее супруга в 1908 году возвели шестиметровое распятие с эмалевыми вставками и надписью: «Отче, отпусти им, не ведают бо, что творят». Автором был знаменитый Виктор Васнецов. А спустя еще десятилетие, этому кресту довелось поучаствовать в беспрецедентной акции. О ней вспоминал первый комендант Кремля П. Д. Мальков: «Наступило 1 мая 1918 года. Члены ВЦИК, сотрудники ВЦИК и Совнаркома собрались к 9.30 утра в Кремле, перед зданием Судебных установлений.
Вышел Владимир Ильич. Он был весел, шутил, смеялся. Когда я подошел, Ильич приветливо поздоровался со мной, поздравил с праздником, а потом шутливо погрозил пальцем:
– Хорошо, батенька, все хорошо, а вот это безобразие так и не убрали. Это уж нехорошо, – и указал на памятник, воздвигнутый на месте убийства великого князя Сергея Александровича».
На это Павел Дмитриевич лишь вздохнул:
– Правильно, Владимир Ильич, не убрал. Не успел, рабочих рук не хватило.
Но Ленина этот ответ нисколько не устроил:
– Ишь ты, нашел причину! Так, говорите, рабочих рук не хватает? Ну, для этого дела рабочие руки найдутся хоть сейчас. Как, товарищи?
Естественно, «товарищи», стоящие рядом с руководителем страны, спорить не стали.
– Видите? – продолжал Ленин. – А вы говорите, рабочих рук нет. Ну-ка, пока есть время до демонстрации, тащите веревки.
Далее – вновь воспоминания Малькова: «Я мигом сбегал в комендатуру и принес веревки. Владимир Ильич ловко сделал петлю и накинул на памятник. Взялись за дело все, и вскоре памятник был опутан веревками со всех сторон.
– А ну, дружно! – задорно скомандовал Владимир Ильич. Ленин, Свердлов, Аванесов, Смидович и другие члены ВЦИК и Совнаркома и сотрудники немногочисленного правительственного аппарата впряглись в веревки, налегли, дернули, – и памятник рухнул на булыжник.
– Долой его с глаз, на свалку! – продолжал распоряжаться Владимир Ильич.
Десятки рук подхватили веревки, и памятник загремел по булыжнику к Тайницкому саду».
Дальнейшая судьба креста была печальной и, увы, обычной для тех лет. Уже 5 мая 1918 года член Всероссийского поместного собора Н. Д. Кузнецов отважно выступил с протестом и, одновременно, с ходатайством – чтобы крест передали либо Чудову монастырю, либо Успенскому собору в Кремле.
К счастью для Кузнецова, и протест, и ходатайство были всего-навсего проигнорированы (впрочем, он впоследствии не избежал репрессий и скончался в ссылке в 1929 году).
А о судьбе креста писал в своих заметках Н. Д. Виноградов – помощник наркома имуществ республики и заодно член комиссии по охране памятников искусства и старины Моссовета: «От Александра II пошел со Всеволжским к быв. пам. Серг. Ал., где убедился, что материал, из которого он сделан, прекрасен, и его необходимо отволочь куда-то в сторону. Решено – во двор между стеной и зданием судебных установлений».
На этом, в общем-то, закончилась история креста. Но сюжет, впоследствии известный и в фольклоре, и в официальной социалистической идеологии как «Ленин и бревно», лишь только начал оформляться. И, вообще говоря, символично, что первым «бревном» Ильича стал памятник русского скульптурного и изобразительного искусства работы знаменитого художника, профессора церковной живописи Виктора Михайловича Васнецова.
* * *
После революции Нескучное стало музеем. Еще 19 мая 1919 года московская коллегия отдела Наркомпроса по делам музеев и охране памятников искусства и старины решила, что в Москве необходимо сделать бытовой музей. А поскольку здание Нескучного дворца было просторным и обладало соответствующими интерьерами, решили разместить в нем вещи, относящиеся ко второй половине восемнадцатого – первой трети девятнадцатого века. И уже в июне сюда прибыли первые экспонаты – восемнадцать стареньких карет и экипажей из Кремля. Но поскольку большинство из поступающих в музей предметов были креслами, шкафами, секретерами, бюро, столами и прочей реквизированной обстановкой, его в конце концов решили так и называть – музеем мебели.
«Наполненный множеством превосходных предметов и устроенный с большим вкусом и знанием дела, музей мебели является одним из лучших московских хранилищ изделий декоративного искусства», – хвастался путеводитель по городу.
Кстати, именно здесь тов. Воробьянинов с тов. Бендером искали гамбсовские стулья. Создатели же этих замечательных героев оставили, пожалуй, самое занятное из описаний этого музея: «Это были комнаты, обставленные павловским ампиром, красным деревом и карельской березой – мебелью строгой, чудесной и воинственной. Два квадратных шкафа, стеклянные дверцы которых были крест-накрест пересечены копьями, стояли против письменного стола. Стол был безбрежен. Сесть за него было все равно, что сесть за Театральную площадь, причем Большой театр с колоннадой и четверкой бронзовых коняг, волокущих Аполлона на премьеру «Красного мака», показался бы на столе чернильным прибором. Так по крайней мере чудилось Лизе, воспитываемой на морковке как некий кролик. По углам стояли кресла с высокими спинками, верхушки которых были загнуты на манер бараньих рогов. Солнце лежало на персиковой обивке кресел…
По левую руку от самого пола шли низенькие полукруглые окна. Сквозь них, под ногами, Лиза увидела огромный белый двухсветный зал с колоннами. В зале тоже стояла мебель и блуждали посетители. Лиза остановилась. Никогда еще она не видела зала у себя под ногами».
Кстати, до недавних пор исследователи считали, что действие романа происходило в доме 21 по Подсосенскому переулку, куда музей перевели в 1927 году. Доказывая этот факт, один из краеведов, Александр Шамаро, апеллировал к третьему персонажу – Лизаньке: «Как вы помните, Лиза Калачева попала в этот музей совершенно случайно: поссорившись и разругавшись с мужем Колей из-за глубоко различных взглядов на вегетарианское питание, она выскочила из особнячка в Сивцевом Вражке с желанием немедля, „назло“ съесть что-нибудь мясное. Таким яством оказался бутерброд с вареной колбасой. Лиза с наслаждением съела бутерброд в подъезде какого-то двухэтажного особняка. Этот особняк и оказался музеем мебели. Согласитесь, с какой стати было идти или ехать ей ради бутерброда с колбасой из района Арбата на Калужскую улицу… в те времена отдаленную окраину города и там, пройдя по Нескучному саду, укрыться на время в подъезде бывшего императорского дворца?»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: