Вячеслав Гончаров - На суше и на море 1987
- Название:На суше и на море 1987
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мысль
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Гончаров - На суше и на море 1987 краткое содержание
На суше и на море 1987 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Все-таки не прав оказался Аким Паромов, когда говорил, что «у пинежан выпало ремесло из рук». Нет, не разучились они чувствовать дерево, обращаться с ним, не утратили приемы обработки. Целые улицы новехоньких, с иголочки двухквартирных домов из бруса, которые я видел в Суре, Пиринеме, Карпогорах и других пинежских селах, совсем не портят деревенский антураж. Да и его собственное жилище в поселке лесопункта смотрится как картинка. Конечно, паромовский дом нельзя сравнить с теми теремами, чьи фото украшают монографии о деревянном зодчестве, но в целом это довольно внушительное и прочное деревенское жилье, которое не только опирается на прошлый опыт, но и учитывает потребности 50-летнего мужчины и его многочисленных детей, которые знают, что такое городские удобства.
К избе на приличествующем отдалении был прирублен теплый туалет, имелась застекленная веранда площадью метров двадцать, прекрасно оборудованный гараж для мотоцикла (и для будущих «Жигулей» тоже!), просторная баня с предбанником, куда он провел радио, даже проход к дому был выложен бетонной плиткой… Да, чуть не забыл — в сенях у Паромова стояли ярко выкрашенные наличники с тонким узорочьем и готовый к отправке наверх конек, вытесанный из цельной еловой плахи, — предмет особой гордости хозяина.
У того, кто строит свой дом, прочные корни в земле. И не случайно районное отделение Госбанка выделило Акиму Паромову крупный кредит с погашением в течение десяти лет, лесничество выписало хороший лес, обеспечило специальной машиной для разделки древесины под вагонку и половую доску. А с постройкой дома ему крепко помогли отец, родственники и соседи: теперь через два участка строится его товарищ — и Аким подрядился к нему в помощники…
Нет, не умерла изба!
Во время поездки я чутко прислушивался к тому, как говорят люди. Мне кажется, есть какая-то связь между характером северного человека, укладом его жизни и окружающей природой. И язык пинежан — не исключение. Музыка их речи созвучна шороху вековых сосен, она вплывает в глаголицу прясел и изгородей, в царство дерева и топора и чувствует себя там на месте. Люди на Пинеге начинают говорить резко, высоко, как бы «скорострельно», а заканчивают неожиданным распевом, с удвоением гласной в конце предложения, после которого хочется поставить вопросительный знак. Удивительный говор на Пинеге! И такой симпатичный, простодушный и открытый, что даже ругательства в устах северянина звучат почти как добрые напутствия.
Впрочем, не всегда. Вспоминается в связи с этим одна любопытная сценка на перевозе у старинного села Кушкопала, в тридцати километрах от того места, где родился, вырос и недавно был похоронен выдающийся наш писатель Федор Александрович Абрамов.
Спорили два человека — командированный из Архангельска и здешний лодочник-перевозчик, верткий, увилистый мужичонка, ёрник и балаболка. Одному нужно было срочно переправиться на тот берег, другой от этого упрямо отлынивал, выдвигая сотни «объективных» причин. Кто из них оказался прав, кто виноват, я так и не понял, потому что слух мой был настроен на волну нечаянно обострившегося спора, извергавшего такие перлы народного красноречия, что я тут же схватился за карандаш. И вот что мне удалось записать: «адом брать», «драть ад» или «открыть ад» («Чё ад-то дерёшь, чё ад-то открыл на меня?») — значит, криком отстаивать свои интересы, чрезмерно громко говорить, возмущаться действиями собеседника. «Адамов череп» — лысая голова; «черствая пята» — неуклюжий, неповоротливый человек; «артюшка» — простак, глупец; «багры» — руки; «базанить» — хулиганить, ругаться…
Надо думать, читатель уже догадался, что все эти слова и обороты я выудил у верткого на язык мужичка-перевозчика, неплохого в сущности человека, должность которого в силу многих нервных причин как бы располагала к обильному и образному словотворчеству. Но и командированный — надо отдать ему должное — тоже оказался докой по этой части. Как я заметил по его говору, он был коренной, пинежский, но за долгие годы жизни в городе успел набраться расхожего лексикона и поначалу очень уж старался, чтобы из него не выскочило какое-нибудь простецкое словцо. Однако, как он ни пытался подменить свой словарь безликими, «дистиллированными» оборотами, он, сам того не замечая, отвечал лодочнику языком своей родной деревни. И отвечал с достоинством и бесстрашным задором, как бы давая понять, кто он такой и откуда род свой ведет. Просто к нему вернулось то прошлое, которое, живя в Архангельске, он пытался безуспешно забыть. И словечки этот командированный выковыривал иной раз похлестче, чем поднаторевший в словесных баталиях перевозчик… «Арапа заправить» — значит, обмануть, ввести в заблуждение; «сто верст до небес и все лесом» — то же самое, что пообещать и не сделать. «Басалай», «балахрыст» — бездельник, пустозвон, проныра; «графский лёжень» — лентяй; «дать балдыша» и «с тычка на тычок положить» — побить, поколотить, устроить взбучку и т. д…
Вспоминается еще тихая светлая ночь, когда я плыл на плоту по Пинеге. Река потускнела, словно отыгралась за день. Рыба только играла у берегов, оставляя бесчисленные круги, да переговаривались, шептались сплавные бревна, когда сталкивались у бонов. И только сильный женский голос нарушал этот дремотный покой:
— Ми-ша-а-а… пар-ни-ч-о-о-к!
У самой воды стояла пожилая крестьянка и звала «парничка» Мишу: бросай, мол, рыбалку, иди домой, ужин на столе, да и спать пора; иди скорее, пока не попало…
Этот голос забирал все речные звуки, шорох плывущих деревьев, дробился на множество гласных, которые, растекаясь, замирали в береговых чащах. Слово было незнакомое, и я решил записать его в блокнот, чтобы спросить потом у сведущих людей. И вдруг застыл в изумлении: так ведь это же мальчик! Конечно, мальчик. «Парни-чок» — значит, маленький парень.
Когда, какой человек придумал это слово и выпустил его в мир? Почему оно жило прежде и почему теперь, услышав его, я ощутил сладкую, щемящую радость?.. Потом-то я понял: это было постижение Родины, какой-то крошечной ее сути — древнего, но уже обмелевшего родника русской речи. И еще я подумал о том, что, хотя у родника не те возможности, да и силы не те, он прародитель, основа всего живого. Представьте, что станет с рекой, если пересохнет хотя бы один источник, который питает ее? Мы потеряем что-то очень важное, исконное, как потеряли, забыв первородное слово «парни-чок»…
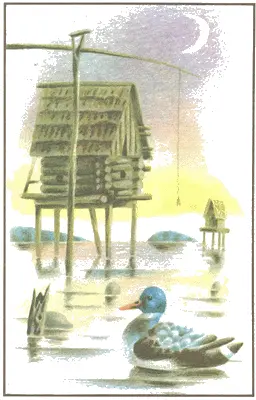
Вот такие случайные в сущности житейские сценки и положили начало моей многолетней коллекции северной народной лексики, которую я из года в год пополнял, приезжая на Пинегу, Мезень, Печору. Иной раз попадались слова-уникумы, слова-памятники. Не важно, что некоторые из них были зафиксированы далевским и другими словарями; важно было убедиться в том, что они по-прежнему живы и с неодолимым напором несутся по течению времени.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:










