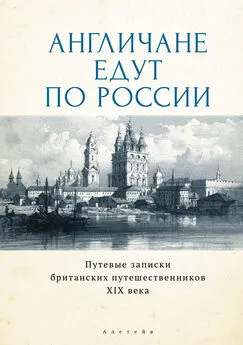И Кучумов - Англичане едут по России. Путевые записки британских путешественников XIX века
- Название:Англичане едут по России. Путевые записки британских путешественников XIX века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя
- Год:2021
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-00165-295-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
И Кучумов - Англичане едут по России. Путевые записки британских путешественников XIX века краткое содержание
Выдающийся математик и физик Уильям Споттисвуд (1825–1883) в 1856 г. приобрел в Казани диковинное для англичанина транспортное средство – тарантас и проехал на нем по Европейской России от Москвы до Астрахани, побывал в городах и селах, заглянул в буддийский монастырь. Несмотря на то что незадолго до этого закончилась Крымская война, в которой родина путешественника противостояла нашей стране, англичанина принимали с исключительным радушием и во всем ему помогали.
Известный эколог Джон Кромби Браун (1808–1895) несколько лет провел в России. Однажды друзья пригласили его отправиться на Урал для изучения местных лесов и горных заводов, но он предпочел совершить туда так называемое «воображаемое путешествие» и написал об этом увлекательную книгу.
Инженер и металлург Джеймс Картмелл Ридли (1844–1914) вместе с участниками Международного геологического конгресса летом 1897 г. посетил Уфимскую и Пермскую губернии и потом опубликовал записки, в которых увлекательно описал быт и нравы местного населения.
Книга предназначена для историков, этнографов, географов и краеведов.
Англичане едут по России. Путевые записки британских путешественников XIX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
На Симском заводе, пока мы ожидали завтрак, к нам явился полицмейстер и попросил наши паспорта. Сделав вид, что тщательно изучает их, он, потешив свое самолюбие, в итоге вернул нам документы. Позднее в Уфе я узнал, что чиновник принял меня за «управителя», едущего в Оренбург. В патриотическом угаре он написал своему другу гневное письмо, пожаловавшись, что начальником сделали англичанина, а не русского. Благодаря подобным слухам ко мне иногда относились с недоверием, но чаще всего протягивали руку помощи. Конечно, приходилось долго объяснять, что я езжу по России из любопытства и ради удовольствия. Обычно меня подробно расспрашивали:
– Вы вроде бы англичанин?
– Да.
– Откуда приехали?
Называю.
– А куда держите путь?
Сообщаю.
– Что будете там делать?
– Ничего.
– Тогда зачем Вам туда нужно?
– Просто так, посмотреть.
– Но с какой целью?
– Ради интереса.
– Но там же нет ничего стоящего! – и т. д.
…После гор, выглядевших во время ливня довольно уныло, дорога свернула в лес, который привел нас в удивительной красоты ложбину [227]. По ее обеим сторонам тянулись красиво сложенные друг за другом горы, густо поросшие соснами, а посередине протекала каменистая речка [228]. Вот если бы скалы и вода ограничивались горами или руслом реки! Но, как назло, они постоянно пересекали нам путь, и в том, что наш тарантас не развалился, была заслуга его конструктора. В моих записях об этом участке маршрута говорится, что, если в следующий раз ямщик предложит дорогу получше, нужно соглашаться, – бывалые путешественники об этом знают.
Из ущелья дорога пошла на запад по покрытым кустарником горам, но еще до заката они закончились. Из серого полумрака тарантас вынырнул в преисполненный сиянием вечер, характерный для Денби [229]. Теперь мы ехали по самым западным отрогам Урала и с тоской оглядывались назад, провожая каждый уходящий за горизонт склон.
Мы добрались до почтовой станции Нижние Лемезы [230]уже после захода солнца, и поскольку следующий этап нашего маршрута предстоял быть долгим и проходить по горам, решили здесь переночевать. Станция представляла собой одинокую бревенчатую избу с парой комнат: правая для проезжающих, а левая – для семьи. Обе комнаты больше напоминали конюшню. Мы сидели в углу, и свет нашего фонаря выхватывал из темноты замшелые стыки бревенчатых стен и два маленьких отверстия вместо окон. Однако крышу и остальные части нашего пристанища мы не видели и не захотели увидеть. Был воскресный вечер, и только я начал засыпать, полный тех противоречивых чувств и мыслей, которыми путешественник предпочитает не делиться, как из-за стены послышалось пение. Это был восхитительный псалом в великолепном исполнении главы семьи. Стена едва заглушала его. Я вошел в комнату, откуда доносилась музыка. Это было большое, квадратное помещение, увенчанное крышей. Оно освещалось несколькими лучинами, подвешенными на маленьких цепочках, свисавших с одной из стропил. Могучий рембрандтовский свет падал на мужчину, его жену – по-матерински добрую старушку, которая в своей грубоватой манере немного заботилась о нас, и на пять-шесть мальчиков и девочек, сидевших на полу и деревянных скамьях. На родителях были обычные овчины, одежда детей – скорее узкой, чем просторной. Я хотел попросить их исполнить еще один псалом, но вынужден был покинуть помещение по причине его спертого воздуха.
Примерно в половине четвертого ночи при свете луны и звезд мы снова отправились в путь по одному из самых трудных участков нашего маршрута [231]. Дорога пересекала большую гору и была крутой, неровной, периодически сопровождалась трясинами, нас окружали заросли дуба, березы, вяза и ольхи, ветви которых часто были увиты диким виноградом. В дальнейшем, вплоть до почтовой станции Касимовой [232], дорога стала ровнее, но почва оставалась вязкой. Проехав тысячу миль по соснякам, мы оказались на лесной равнине, и вскоре наш тарантас выехал на возвышенность со множеством деревень и обширными нивами. Найти лошадей было сложно – шла уборочная. Мы прибыли в Уфу за полночь 24 сентября и вскоре оказались в лучшей, как позже выяснилось, городской гостинице: во всяком случае, в ней было тепло. Выпив чая и заперев двери с помощью гвоздей и веревки, мы растянулись на скамьях и погрузились в сон.
На следующее утро, совершая перед завтраком прогулку, мы обнаружили, что все в городе обсуждают наш приезд. Кроме того, сюда только что пришло официальное сообщение о состоявшейся коронации, и в Уфе был объявлен трехдневный праздник. Это позволило людям прийти поглазеть на незнакомцев – во всяком случае, уфимцы вряд ли утруждали себя занятиями хозяйством, так что стоило мне только выйти из гостиницы, как меня окружала толпа. В ответ на мою просьбу подыскать переводчика и помочь с оформлением паспортов мне представили приземистого щеголеватого старичка с пожелтевшим лицом. На нем был синий сюртук с медным значком, узорчатый атласный жилет и черные брюки, а в руке он держал трость. Дедушка оказался поляком и был готов помочь во всем, но едва речь зашла о губернаторе и полиции, сразу же заявил, что не хочет с ними знаться [233]. Однако он привел своего соотечественника – солдата, который не имел ничего против властей и взялся наставить нас на путь истинный. Он служил в польском полку, который был расквартирован в Уфе подобно тому, как в Варшаве стоят армейские части, состоящие из уроженцев восточной части империи [234]. К сожалению, днем этот мужичок дорвался до бутыли со спиртом, который мы купили здесь на пробу (но он оказался слишком крепким и больше походил на отраву!), и, приняв лишку, принялся без умолку молоть всякую бессмыслицу. В городе продолжались коронационные торжества, все государственные учреждения были закрыты, и нам с довольно ехидной ухмылкой сообщили, что это продлится еще пару дней.
Уфа стоит на высоком мысу, образованном слиянием рек Белая и Уфа. Значительная часть города расположена на холме [235]и застроена заурядными широкими прямоугольными улицами и большими площадями [236], но его предместья тянутся на юг по двум-трем оврагам до самой реки и очень удачно сочетаются с лесом, который пока еще не вырублен полностью. На горе [237]располагается монастырь, обращенный в сторону запада [238], а с природного уступа видны прекрасные долины Демы и Белой. Несколько рядов деревянных домов посреди большой площади, на которой находится гостиница, образуют рынок [239]. Мы прошлись почти по всем лавкам, но не нашли в них ничего, достойного внимания. Все основные продукты питания, посуда, стекло, одежда и т. д., завозятся в Уфу из Московской и более южных губерний. За сморщенный и непритязательного вида лимон просят полтинник, т. е. примерно 1 шиллинг и 7½ пенни.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
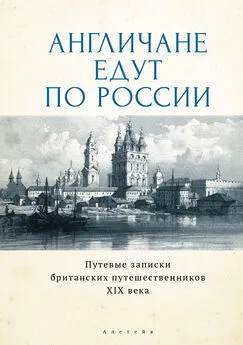

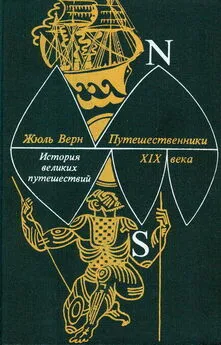

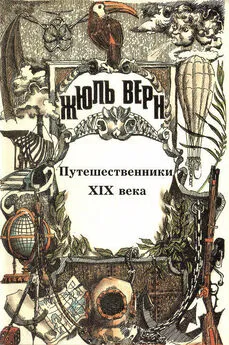


![Александр Бушков - Кто в России не ворует. Криминальная история XVIII–XIX веков [litres]](/books/1144744/aleksandr-bushkov-kto-v-rossii-ne-voruet-kriminal.webp)