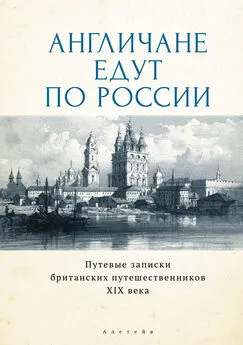И Кучумов - Англичане едут по России. Путевые записки британских путешественников XIX века
- Название:Англичане едут по России. Путевые записки британских путешественников XIX века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя
- Год:2021
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-00165-295-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
И Кучумов - Англичане едут по России. Путевые записки британских путешественников XIX века краткое содержание
Выдающийся математик и физик Уильям Споттисвуд (1825–1883) в 1856 г. приобрел в Казани диковинное для англичанина транспортное средство – тарантас и проехал на нем по Европейской России от Москвы до Астрахани, побывал в городах и селах, заглянул в буддийский монастырь. Несмотря на то что незадолго до этого закончилась Крымская война, в которой родина путешественника противостояла нашей стране, англичанина принимали с исключительным радушием и во всем ему помогали.
Известный эколог Джон Кромби Браун (1808–1895) несколько лет провел в России. Однажды друзья пригласили его отправиться на Урал для изучения местных лесов и горных заводов, но он предпочел совершить туда так называемое «воображаемое путешествие» и написал об этом увлекательную книгу.
Инженер и металлург Джеймс Картмелл Ридли (1844–1914) вместе с участниками Международного геологического конгресса летом 1897 г. посетил Уфимскую и Пермскую губернии и потом опубликовал записки, в которых увлекательно описал быт и нравы местного населения.
Книга предназначена для историков, этнографов, географов и краеведов.
Англичане едут по России. Путевые записки британских путешественников XIX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Надо признать, что, хотя пейзажи Поволжья довольно однообразны, они настолько красивы, и река до такой степени величественно огибает покрытые лесами горы и мысы, выступающие как на берегах Норт-Девона [356], что от них невозможно оторвать глаз. Выше по течению вид примерно такой же, как вблизи Самары, ниже он более открытый, а в конце прекрасного плеса вдали возникает Архангельское [357]. Дорога при выезде из Балаково идет по низине на небольшом расстоянии от реки и густо покрыта дубняком. Петляя по нему, дорога с равнин, замечательных все тем же коичнево-золотистым лесом, постепенно приблизилась к высокому кряжу, откуда мы в одночасье по крутому склону спустились к Волгску. Сгущались сумерки, и среди смутных очертаний домов замерцали огни города. Сияние редких звезд, пробивавшееся сквозь облака, озаряло широкое русло реки, по которой сновали туда-сюда лодки рыбаков, и свет фонарей их напоминал огни святого Эльма. Почтовая станция Волгска была самой ухоженной и лучшей из всех, что мы встречали на этом шоссе, а ее хозяин и его жена – невероятно любезными. Если бы я обладал способностью видеть будущее, то наверняка бы предположил некую мистическую связь этого обстоятельства с гостеприимным приемом нас в Астрахани, которая – но тогда я этого не знал! – фактически принадлежит мистеру Сапожникоффу [358]. Но как бы то ни было, нужно признать, что его щедрость и энтузиазм позволили превратить этот город в привлекательный даже для проезжающих. Мистер Сапожникофф много сделал для Астрахани, и, кроме всего прочего, недавно построил в ней на свои средства церковь.
Фонари на экипажах обычно используются только на шоссе, поэтому ямщики страдают не от темноты, а от этого искусственного света. Когда мы выехали из Волгска, луна не показывалась, было пасмурно и так темно, что вознице пришлось воспользоваться нашим маленьким ручным фонарем. Встретив на пути шаткий мостик или резкий поворот, он спешивался и, держа в руке этот фонарь, вел упряжку под уздцы. Наш ямщик был не из трусливых и почти все время гнал лошадей рысью, так что мы достаточно быстро проскочили этот участок пути. К счастью, дождя не было, хотя гремел гром. На следующей почтовой станции, Ключи [359], почтмейстер тянул с предоставлением нам лошадей, но мы настояли на этом. Так как наш ямщик не имел опыта ночной езды, мы предпочти взять более опытного. Замечу, что путешествующие в это время зачастую могут рассчитывать на лучшую упряжку и возничего, а сам факт прибытия на станцию ночью, когда большинство людей спит, восхищает почтмейстеров. Утром мы наткнулись на экипаж, в котором в Астрахань ехали два человека, но, заблудившись в темноте в горах, они были вынуждены распрячь своих лошадей и заночевать прямо на дороге.
Следующим вечером, 4 октября, мы оказались почти в таком же положении, поскольку на последнем перегоне перед Саратовом ночь наступила раньше наших ожиданий, поэтому, сделав пару резких и не вполне понятных разворотов на месте, ямщик шепотом признался, что сбился с пути. И тут вновь пригодился наш фонарь, ибо, несмотря на плохие мосты и скверную дорогу, наш возница, оказавшийся ненамного лучше предыдущего, смог найти дорогу. Маленькая свечка в фонаре быстро сгорела и нас окутала кромешеная тьма. Но в этот миг как раз зажглись звезды, и через пару часов, уже в полночь, мы уплетали превосходную еду в качестве единственных постояльцев большого русского отеля в Саратове.
Он, как и большинство городов Нижнего Поволжья, некогда был пограничной заставой, но сейчас стал средоточием земледелия и торговли. Столетие назад здесь по обоим берегам реки была невозделанная степь, и первопоселенцы на восточной стороне жили в постоянном страхе перед набегами башкир и киргизцев. Эти народности, как и калмыки до своего ухода в 1771 г., не просто грабили и уничтожали имущество, а при любой возможности похищали местное население для продажи в качестве рабов в Центральную Азию.
Немецкие колонии, основанные на Волге Екатериной II для заселения этих мест и поощрения колонизации восточных окраин империи, простираются от Саратова до Сарепты, что ниже Царицына. Вероятно, во многом благодаря немцам здесь производят хлопчатобумажные ткани, плавят железо, строят мельницы для зерна, выращиваемого в окрестностях и доставляемого потом на Каспий и Азов. Удивительно, но колонисты практически не смешиваются с русскими, сохраняют свой язык, обычаи и привычки. Русские тоже такие, но ни знаменитая аккуратность немцев, ни их смекалка и домовитость, по-видимому, русским не передались. Немцы считаются колонистами, а их поселения – колониями, ибо они здесь чужие среди чужих и всегда помнят о своей родине.
Закупка провизии, свечей, шведских спичек, бумаги, бечевок, гвоздей и т. д. – ибо в дороге этого не найдешь – заняла все утро, но уже между двенадцатью и тринадцатью часами 5 октября мы отправились в путь, надеясь, что доберемся до Астрахани довольно быстро. Кстати, шведские спички в России являются контрабандой [360]– нет, их не трудно раздобыть, но они продаются не в лавках, а старухами, которые неплохо зарабатывают на этом.
Из Сарепты дорога отворачивает от реки и поднимается на крутой холм, откуда открывается прекрасный вид на город, а затем на бескрайнюю степь. Трасса была хорошая, и мы не думали о пронизывающем холодном ветре и унылых почтовых станциях, но скверный устьзалихинский [361]ямщик не успел преодолеть этот отрезок пути до рассвета. Здешние ямщики, как правило, немцы, и, слушая их разговоры на немецком, мы чувствовали себя почти как дома, однако нашим возничим недоставало русской отваги и решительности. Вдобавок, 6 октября прошел дождь, сразу превративший отличную дорогу в нечто ужасное.
Конечно, лесоматериалы легко доставляют сюда из более северных районов, и перевозка их по суше, пожалуй, дешевле, чем в других местах, за исключением тех, где имеется желез-подорожное сообщение, но даже стоящие у реки селения выстроены из тесаного бруса и досок и совершенно не походят на бревенчатые вятские и пермские. Степь начинается после Усть-Грязнухи [362].
Дорога, покинув берега Волги в Саратове, не возвращается к ним до самого Камышина, и, хотя на этом отрезке не отклоняется далеко от них, входит в акваторию Дона, но не пересекает его. Примерно в пятнадцати милях южнее Усть-Залихи, т. е. где-то на полпути между Саратовом и Камышином, она тянется вдоль р. Иловли – реки, которая течет параллельно Волге на протяжении двух градусов широты и отделена от нее лишь возвышенностями, как раз и образующими высокий правый берег.
Иловля – невзрачная речушка с песчаным взгорьем примерно в сорок футов высотой. По левому берегу ее шла вязкая и скользкая, утопавшая в грязи дорога, а по правому стелился туман, который, по-видимому, решил не показывать нам лишнего. Нет ничего более безрадостного или, вернее, заслуживающего трех тысяч миль езды, чем дорога до Камышина. Представьте себе человека после десяти суток пути, который, немного отдохнув на деревянной скамье в Саратове, во второй половине дня, в ливень, прибыл в эту «Долину несчастий» [363]. Здание почтовой станции и нужник примерно в пятидесяти ярдах позади нее – первое представляло собой грубо изготовленный сруб, а второй был сколочен из тонких досок – были единственными в этих местах творениями рук человеческих. За ними находилась река, отличавшаяся длинной полосой ивняка, торчавшего из илистого дна, – самым ужасным из возможных покровов, когда-либо создававшихся драпировщиком или оформителем.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
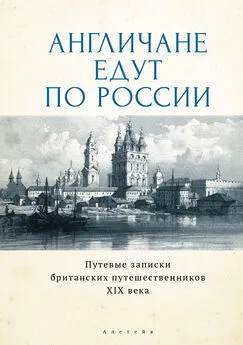

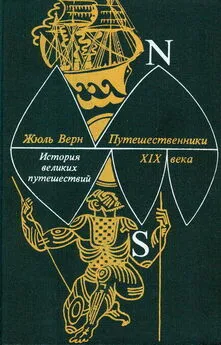

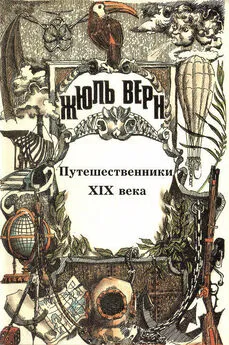


![Александр Бушков - Кто в России не ворует. Криминальная история XVIII–XIX веков [litres]](/books/1144744/aleksandr-bushkov-kto-v-rossii-ne-voruet-kriminal.webp)