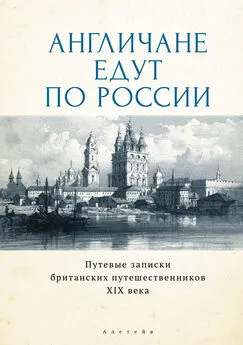И Кучумов - Англичане едут по России. Путевые записки британских путешественников XIX века
- Название:Англичане едут по России. Путевые записки британских путешественников XIX века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя
- Год:2021
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-00165-295-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
И Кучумов - Англичане едут по России. Путевые записки британских путешественников XIX века краткое содержание
Выдающийся математик и физик Уильям Споттисвуд (1825–1883) в 1856 г. приобрел в Казани диковинное для англичанина транспортное средство – тарантас и проехал на нем по Европейской России от Москвы до Астрахани, побывал в городах и селах, заглянул в буддийский монастырь. Несмотря на то что незадолго до этого закончилась Крымская война, в которой родина путешественника противостояла нашей стране, англичанина принимали с исключительным радушием и во всем ему помогали.
Известный эколог Джон Кромби Браун (1808–1895) несколько лет провел в России. Однажды друзья пригласили его отправиться на Урал для изучения местных лесов и горных заводов, но он предпочел совершить туда так называемое «воображаемое путешествие» и написал об этом увлекательную книгу.
Инженер и металлург Джеймс Картмелл Ридли (1844–1914) вместе с участниками Международного геологического конгресса летом 1897 г. посетил Уфимскую и Пермскую губернии и потом опубликовал записки, в которых увлекательно описал быт и нравы местного населения.
Книга предназначена для историков, этнографов, географов и краеведов.
Англичане едут по России. Путевые записки британских путешественников XIX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мы отбыли из Царицына около пяти часов вечера и, преодолев пару лесных лощин с их бурными речушками, сначала поехали по низине между высоким правым берегом Волги и самой рекой, а потом миновали Сарепту. Была уже ночь, поэтому город мы смогли увидеть, когда днем возвращались обратно. Царицын находится в начале, а Сарепта – в конце излучины Волги. Эта последняя немецкая колония перед Астраханью была основана в 1769 г. моравами с целью крещения калмыков [380]. Ближайший русский город находился в восьмидесяти милях отсюда, и когда в 1771 г. калмыки двинулись в Китай, Сарепта едва устояла, но если бы их правобережные племена объединились с левобережными, то колонии было несдобровать.
Однако судьба Сарепты была несчастной. В 1773 г. ее и округу разорил казак Пугачев [381], спасаясь от которого колонисты бежали в Астрахань. В 1812 г. в городе случился пожар [382], а незадолго до этого в Москве сгорели склады с сарептскими товарами [383]. В 1823 г. новый пожар уничтожил почти всю колонию, но еще более ужасным было обмеление Сарпы. Впадающая в Волгу ниже города, эта река некогда была весьма полноводной и позволяла своим многочисленным мельницам получать неплохую прибыль, однако постоянная нехватка воды привела к тому, что к 1800 г. они были заброшены. Несмотря на это, упрямые колонисты не уходят отсюда, хотя лучшие времена Сарепты, кажется, уже прошли. Немцы все еще производят некоторое количество шелковых и х лопчатобумажных изделий, содержат чулочные и кожевенные фабрики, выращивают табак и индиго. Сарептская горчица пользуется в России таким же спросом, как в Англии даремская [384], только последняя более острая на вкус. Сарептские товары продаются в Астрахани в особой лавке, где можно приобрести всевозможную одежду и разнообразные полезные и изящные вещички. Сарепта – город сугубо немецкий, в нем нет ничего русского, его дома отличаются чистотой, расположены удобно и естественно, посреди деревьев, аллей и садов, чего мы не встречали уже сотни миль. Хотя сама по себе Сарепта довольно заурядна, ее облик производит на путешественника, привыкшего к российскому однообразию, неизгладимое впечатление. Усилия моравских миссионеров особых результатов не принесли, и только полвека спустя им с трудом удалось обратить в христианство несколько калмыцких семей, что вызвало протест русского духовенства, а позднее было разрешено крестить калмыков только в православную веру.
Первые две-три почтовые станции после Сарепты представляют собой простые избушки в степи [385]. Ночью 9 октября, когда мы проезжали мимо них, поднялся сильный северный ветер. Утром он прекратился, но холод не ушел, однако я, несмотря на возражения Л., приоткрыл занавеску тарантаса, чтобы насладиться одним из самых великолепных восходов солнца, который только можно представить. Наша дорога пролегала недалеко от Волги, горизонт выглядел ровным и четким, словно мы плыли по морю. Десятого октября мы позавтракали в Вязовке [386]. Следующей почтовой станцией была Старицкая [387]– расположенное в ложбине колоритное селение. Его избы покрыты соломой, обвязанной дранкой. Я был настолько очарован обликом этого населенного пункта, что даже записал в своем дневнике: «Перед каждым домом здесь имеется маленький палисадник, огороженный плетнем, внутри которого растут три деревца. Как это приятно!» Но увы! Когда на обратном пути мы подъехали поближе, оказалось, что в «палисадники с плетнем» насыпают землю и навоз, чтобы зимой в домах было тепло, поэтому они представляли собой огромные кучи мусора, наваленного на стены изб как можно выше.
Облик следующего после Старицкой Черного Яра [388]сочетался расположенными в нем комендантским домом, казармами, небольшими укреплениями и т. д. так же, как пушка при охоте на тигра или бейсбольный костюм с пантганом [389]на Лимингтонских болотах [390]. Когда мы отправились вниз по неровной тропинке на короткую прогулку за город, селение быстро скрылось из виду. Груженые зерном баржи и рыбацкие лодки, несколько грубых хижин и калмыцкая кибитка, изобилие в реке дичи – вот и все местные достопримечательности. На изумительные пейзажи, тихие бухты и мысы Волги, острова и заросли ивняка, близлежащие киргизские пастбища, дикие лебеди, размеренные движения людей, лодок и течения реки можно было смотреть бесконечно долго, превратившись в по-восточному равнодушного ко времени и окружающему миру созерцателя, но тут раздался звонкий голос Л.: «Лошади готовы!»
Путешественник должен быть терпеливым и снисходительным – отчасти потому, чтобы невзначай не оскорбить нравы и обычаи местного населения. Приведу один пример. Мы ехали по выжженной солнцем песчаной местности, и наша собака утоляла жажду в речках и лужах. Однако перед отъездом из Черного Яра Л. попросил конюха-калмыка принести ей воды. Тот появился с миской в руках, из которой питался сам, причем это была его единственная посуда, но узнав, что из нее будут поить собаку, резким движением выхватил чашку из рук Л. и тем самым спас сосуд от осквернения нечистым зверем. Добродетельный христианин, Л. застыл в изумлении и недоумении – он, вероятно, забыл, что мы находимся среди язычников, но и наш Тузик тоже не понял этого поступка калмыка.
В этих степях часто возникают миражи. Однажды один такой объект висел в воздухе с раннего утра до трех часов пополудни. Превращение населенного пункта в реальность часто выглядит очень забавно. Мы стали свидетелями этого в Черном Яре. Земля впереди медленно начала приподниматься, затем показалась петлявшая по степи дорога, а по ней нескончаемой вереницей потянулись верстовые столбы и знаки для обозначения заснеженного пути. На возвышенности, как водится, виднелось словно настоящее озеро, а на его берегах стояла столица сказочного царства. Церкви, дворцы, сады и рощи с высокими и грациозно изогнутыми деревьями, причудливые башенки и минареты как бы по мановению волшебной палочки меняли свои формы и, подобно калейдоскопу, создавали все новые комбинации. Увы! В итоге дворцы превратились в склады, храмы – в амбары, а высокие покачивающиеся деревья и затейливые шпили – в крылья загородных ветряных мельниц.
Утром 10 октября мы миновали Енотаевск [391]. Он и Черный Яр [392]– единственные города между Сарептой и Астраханью. В Енотаевске мы купили у немца – булочника белый хлеб. В большинстве русских городов имеются такие немцы-пекари. Обычно мы брали с собой мало провизии, поэтому всегда удивлялись, как за один-два дня съедали столько хлеба и сухарей. Оказывается, в трудной поездке, особенно в ненастье или в холод, человек постоянно ест, а хлеб не нужно готовить, да и полноценной пищей он не считается.
Надо сказать, что Енотаевск – самый мрачный и безжизненный из всех прежде виденных мной городов [393]. Расположенный в самом начале пустыни Сыпучие пески, он как бы наполовину занесен ими и кажется безлюдным. Его почтовая станция выглядела заброшенной, в ней не было даже смотрителя. Такое я видел в России впервые, за ним послали, но не смогли найти. «Старый» организовал нам лошадей. Л., на время превратившись в хозяина станции, отметил в конторской книге нашу подорожную [394], а пестрая толпа диковатого вида калмыков и русских стояла рядом и тупо смотрела на нас – такого тоже раньше не бывало.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
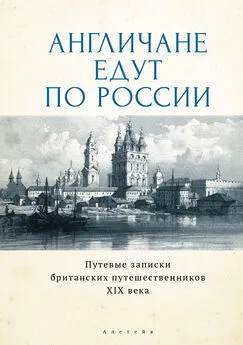

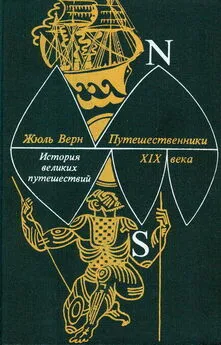

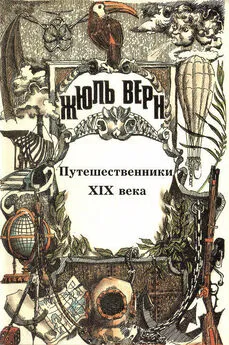


![Александр Бушков - Кто в России не ворует. Криминальная история XVIII–XIX веков [litres]](/books/1144744/aleksandr-bushkov-kto-v-rossii-ne-voruet-kriminal.webp)