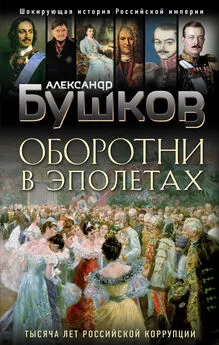Александр Бушков - Оборотни в эполетах [Тысяча лет Российской коррупции] [litres]
- Название:Оборотни в эполетах [Тысяча лет Российской коррупции] [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент 1 редакция (17)
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-119283-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Бушков - Оборотни в эполетах [Тысяча лет Российской коррупции] [litres] краткое содержание
Воровали и мелкие чиновники, и помещики, и дворяне, и приближенные к царской семье вельможи. Увлекались казнокрадством генералы, военачальники и воспетые поэтами герои. Придумывали мошеннические схемы губернаторы, крупные банкиры и промышленники…
За многими, весьма многими водился этот грешок.
Сегодня что-нибудь изменилось? Масштабы, суммы, социальное положение коррупционеров? Выводы делайте сами. А пока – погрузитесь в этот чарующий мир золотых эполетов, залитых светом дворцов, роскошных балов и прекрасных дам – там! там дрожали и потели в предвкушении халявных денег потные ручонки алчных мздоимцев, жуликов и сиятельного ворья… В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Оборотни в эполетах [Тысяча лет Российской коррупции] [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Поскольку оставлять вовсе без расследования такое происшествие невозможно, Николай направил в Кронштадт специальную комиссию во главе со знаменитым адмиралом М. П. Лазаревым. Комиссия дала заключение: все произошло из-за возгорания (или, скорее уж, самовозгорания) пороховой пыли в крюйт-камере. Теоретически такое было возможно, а вот на практике случалось невероятно редко.
Нет причины подозревать Лазарева в фальсификации данных – он был известен как человек честный и во флотской коррупции не замешанный. Скорее всего, ему была свойственна кое в чем этакая житейская наивность (что случается и с адмиралами). Интересно, что Николай, выслушав доклад, буквально взорвался:
– А я тебе говорю, что корабль сожгли!
Вполне вероятно, у него информации было больше, чем у Лазарева, – работало и Третье отделение, и секретная полиция в армии. Но доказать ничего уже было невозможно, концы, чуть перефразируя известную поговорку, оказались надежно спрятаны в огонь.
В Кронштадте, по крайней мере, обошлось без крови. А вот на Черном море кровь немного позже пролилась. Точнее говоря, там был яд, но какая разница, если казнокрадствовавшая с превеликим размахом шатия-братия погубила честного человека, героя войны на море?
Но давайте по порядку. При Николае некоронованным королем Крыма был адмирал Грейг. Не только командир Черноморского флота, но и генерал-губернатор Севастополя и Николаева, которому к тому же подчинялись все военные и все гражданские порты, торговый флот Черного и Азовского морей, портовые склады и таможни. Одним словом, человек, который, как выразится сто лет спустя по поводу другой персоны Ленин, «сосредоточил в руках необъятную власть». Мало того, что выше его начальства в тех местах попросту не имелось, Грейг приложил еще немало сил, чтобы сделать свои владения самым настоящим «удельным княжеством», неподвластным столице. Долго и настойчиво требовал полностью вывести Черноморский флот из подчинения столице. Этого ему так и не удалось – на дворе стоял XIX век, давным-давно прошли времена, когда русские князья или французские бароны, называя вещи своими именами, плевали на «центральную власть» в лице великого князя или короля. Однако кое-чего он все же добился: с некоторых пор флот подчинялся непосредственно Морскому ведомству, а не морским властям Петербурга, как это обстояло с Балтийским. Изрядную долю автономии это все же прибавило – как и снизило количество надзирающих и проверяющих.
А проверять было что. Полуостров стал форменной феодальной вотчиной адмирала – который, помимо всех перечисленных постов, занимал еще и должность председателя Николаевского ссудного банка – что открывало еще большие возможности для самого разнузданного воровства, пожалуй, смешавшего в себе все виды коррупции, какие только существуют.
Крутилось множество махинаций, гораздо более сложных, чем примитивное, в общем, смахивание в карман части казенных сумм (хотя и это, конечно, имело место, как же без того, это уже традиция…). Грейг использовал свои возможности по максимуму. Немаленькие деньги, выделенные на постройку двух боевых кораблей, куда-то испарились, и для постройки не было сделано абсолютно ничего.
Большую роль в налаженной системе воровства играли верфи. Казенная Херсонская форменным образом простаивала без заказов – зато частные были заказами завалены. Что касается верфей – Грейга вполне можно назвать одним из отцов-основателей отечественной прихватизации. Несколько казенных верфей он передал в частные руки за столь символическую плату, что это было вовсе уж неприглядным цинизмом (за каковой наверняка был хорошо отблагодарен).
О дальнейшем догадаться нетрудно: частные владельцы безбожно раздували сметы на строительство. Подсчитано: на те деньги, что казна выкладывала за постройку одного большого военного корабля, на Балтике или Архангельских верфях (сплошь казенных), можно было построить три. Подсчитано: два 60-пушечных фрегата обошлись казне в полтора раза дороже, чем постройка 80-пушечных.
Вдобавок резко падало качество. Изыскивая деньги где только возможно, Грейг направил на строительство кораблей около 2 тысяч арестантов из местных острогов. А в отчетах наверняка показал их как «вольных мастеров». Между прочим, он прямо нарушал законы Российской империи: тюремных сидельцев тогда предписывалось использовать исключительно, как сказали бы мы сегодня, на погрузочно-разгрузочных работах – таскать круглое и катать квадратное. Но дело даже не в этом. Вольный корабельный мастер на жалованье всерьез заинтересован в качестве своей работы, а вот бесправный зэк, в лучшем случае получавший пятачок на табак, – нисколечко. Он не зарабатывает, а отбывает очередную тяжкую повинность. Так что «качество» его подневольного труда представить легко, оно требует именно что кавычек.
Хватало и других источников неправедных доходов… Парусина на военные корабли поступала исключительно с одного-единственного завода – по странному совпадению, принадлежавшего как раз Грейгу. Корабельный лес и многое другое, необходимое для постройки военных кораблей, поставлялось на «свои» верфи исключительно «своими» людьми – легко догадаться, по задранным ценам. Так что вполне можно верить иным исследователям, полагающим, что в карманы казнокрадов уходила половина всего бюджета Черноморского флота.
Не забудем, что в полном распоряжении Грейга были еще и торговые порты с таможнями. Россия в больших масштабах экспортировала зерно – так что тот, кто рулил портами и таможнями, получал немало возможностей изрядно поднажиться самыми разными способами.
В этом «черном бизнесе» крутились десятки миллионов – то есть именно столько пропадало бесследно, и казенных сумм, и неправедных доходов. Система работала, как часовой механизм. Заправляли ею три человека: Грейг, его жена Юлия и контр-адмирал, обер-интендант (то есть главный интендант флота и прочего «хозяйства Грейга») Критский. Да, я забыл добавить немаловажную деталь: десятки миллионов пропадали ежегодно…
Присмотримся поближе к этой отнюдь не святой троице. Роли были распределены четко. Сам Грейг вульгарной «прозой жизни» не занимался – орлы мух не ловят. Он парил в своих горных высях, занимаясь исключительно тем, что, когда нужно было, скреплял подписью и печатью нужные документы. Вся практическая сторона дела лежала на Критском. Очаровательная Юлия Грейг (не так уж и давно – Лия, принявшая православие еврейка) обеспечивала связь с дельцами-соплеменниками.
Не стоит видеть в происходившем только «еврейские козни». Отметились все. Так уж исторически сложилось в силу исключительной пестроты национального состава тамошнего населения. Пожалуй, именно тогда и появилось то, что гораздо позже криминалисты стали называть «этническими преступными группировками» (правда, не уголовного, а чисто экономического плана). Самыми многочисленными, сильными и влиятельными были два торгово-промышленных клана (или вернее будет называть их мафиями? – еврейская и греческая; греческие коммерсанты абсолютно ничем не уступали еврейским в оборотистости, умении проворачивать темные делишки и национальной спайке). А обер-интендант Критский был как раз греком по происхождению. Юлия помогала своим, Критский – своим. Если евреи и греки порой довольно чувствительно отпихивали друг друга локтями, это не имело ни малейшего отношения ни к национальности, ни к вере – когда речь идет о больших деньгах, серьезные люди подобными лирическими глупостями не заморачиваются.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Александр Бушков - Оборотни в эполетах [Тысяча лет Российской коррупции] [litres]](/books/1059008/aleksandr-bushkov-oborotni-v-epoletah-tysyacha-let-r.webp)
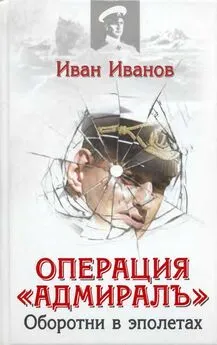
![Александр Бушков - Копья и пулеметы [litres]](/books/1059703/aleksandr-bushkov-kopya-i-pulemety-litres.webp)
![Александр Бушков - Томагавки и алмазы [litres]](/books/1063410/aleksandr-bushkov-tomagavki-i-almazy-litres.webp)
![Александр Бушков - Струна времени. Военные истории [сборник litres]](/books/1064415/aleksandr-bushkov-struna-vremeni-voennye-istorii.webp)
![Александр Бушков - Из пламени и дыма. Военные истории [litres]](/books/1066471/aleksandr-bushkov-iz-plameni-i-dyma-voennye-istori.webp)
![Александр Бушков - Месяц надежды [litres]](/books/1075922/aleksandr-bushkov-mesyac-nadezhdy-litres.webp)
![Александр Бушков - Записки человека долга (сборник) [litres]](/books/1090376/aleksandr-bushkov-zapiski-cheloveka-dolga-sbornik.webp)
![Александр Бушков - Степной ужас [сборник litres]](/books/1142744/aleksandr-bushkov-stepnoj-uzhas-sbornik-litres.webp)
![Александр Бушков - Кто в России не ворует. Криминальная история XVIII–XIX веков [litres]](/books/1144744/aleksandr-bushkov-kto-v-rossii-ne-voruet-kriminal.webp)