Юлия Латынина - Христос с тысячью лиц
- Название:Христос с тысячью лиц
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-101544-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юлия Латынина - Христос с тысячью лиц краткое содержание
Книга превращает безликие статичные фигуры апостолов – Иоанна, Филиппа, Павла – в живых людей, со своими необыкновенными биографиями и яростными, несовместимыми теологиями. Двум персонажам уделено особое внимание.
Фигура Иуды Фомы, претендовавшего на звание духовного близнеца Христа и проповедовавшего за Евфратом, переворачивает традиционное представление о христианстве как о вере, развивавшейся в пределах Римской империи. А фигура Иоанна Крестителя – религиозно-политического лидера невероятного авторитета и мощи – принципиально меняет представления о времени и причине возникновения гностицизма.
Христос с тысячью лиц - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Как совершенно справедливо замечает Роберт Айслер, в этом абзаце де-факто объявлено, что Мессией зилотов, виновных в разрушении храма, был именно Иисус {600}.
Другая война
Итак, если дисконтировать благочестивые вставки – то перед нами предстает совершенно другая «Иудейская война».
В каноническом тексте «Иудейской войны», правленном поколениями цензоров, нет ни Иисуса, ни Иоанна Крестителя. Несмотря на ее декларируемую цель – рассказать об отдельных прохиндеях из «четвертой секты», подбивших мирный иудейский народ на восстание против римлян, в ней содержится удивительно мало сведений о деятельности этой секты до середины 50-х гг.
Идейный основатель «четвертой секты», которого Иосиф в «Древностях» называет Цадок, не упоминается вовсе, рассказ о Понтии Пилате повисает в воздухе; в «Войне» не упоминается о том, что «четвертая секта» сражалась под руководством Мессий из дома Давидова, и не говорится, что Мессией объявил себя и сам Ирод. В ней даже не упомянуто о восстании Феуды!
Напротив, в этой, другой «Войне» тема «четвертой секты» проходит красной нитью, как того и требует идеологическая повестка текста. А история с Иродом, провозгласившим себя Мессией и перебившим ропщущий по этому поводу Синедрион, является ключевой. Если для христиан падение Иерусалима было карой за распятие Христа, то для Иосифа это падение – кара за святотатство, совершенное Иродом. В этой, другой «Войне» история распятия Пилатом Иисуса занимает свое законное ключевое место между историей про Значки и историей про Водопровод.
Необычайное оживление «последователей воскресшего гоиса» совершенно логично датируется в ней 44 г. н. э., когда Иудея из-под власти соблюдающего закон правителя снова возвращается под непосредственный контроль ненавистных киттим. В этой «Иудейской войне» прямо говорится, что пророчество о появлении в земле Израиля Мессии, который будет править всем миром, «одними относилось к Ироду, другими к гоису Иисусу, третьими же – к Веспасиану».
И если канонический текст «Иудейской войны» рисует нам картину религиозного броуновского движения, спонтанного милленаризма, прорывающегося из-под земли, то эта новая «Иудейская война» вдруг чрезвычайно упорядочивает это движение рассказом о двух самых могущественных его основателях: о «диком муже» , начавшем свои проповеди при Архелае, и гоисе, распятом при Понтии Пилате.
До сих пор у нас существуют два дискурса о событиях в Палестине в начале I в. н. э.
Один – принадлежащий перу отцензурированного Иосифа – описывает историю ужасной секты милленаристских революционеров. Другой дискурс – Нового Завета – рассказывает о проповеднике любви и мира Иисусе Христе, который был ни за что ни про что распят римлянами по наущению нечестивых иудеев.
Славянский Иосиф показывает, что оба эти дискурса описывают один и тот же предмет.
А вдруг это все неправда?
Как мог заметить читатель, на страницах выше мы не только разбирали текст славянского Иосифа, но и постоянно доказывали, что его надо принимать всерьез.
Связано это прежде всего с категорическим неприятием этого текста на протяжении большей части XX в. н. э. Сказать, что у славянского Иосифа плохая репутация – значит не сказать ничего. Кажется, нет больше в истории библеистики текста, который подвергался большему неприятию.
Вначале ничто не предвещало беды. Славянский Иосиф был опубликован в России в 1866 г., а на Западе стал известен после 1906 г., будучи переведен на немецкий рижским немцем Александром Беренцем. Первоначально он был встречен «на ура» и даже попал, в качестве дополнений, в девятитомное академическое издание Теккерея {601}.
Но в это-то время появилась книга Роберта Айслера, на которую мы тут постоянно ссылались. Она произвела эффект разорвавшейся бомбы, и лучшие христианские перья были тут же брошены на защиту проповедника любви и мира Христа от фантазий варваров-славян.
Еще не успела высохнуть типографская краска на издании Айслера, как Джон Мартин Крид, кембриджский профессор теологии и по совместительству каноник местного собора, объявил весь труд Айслера грязной инсинуацией, а славянского Иосифа ни более ни менее как фантазией переводчика XII столетия, который желал расцветить скучный текст о неизвестной ему еврейской жизни подробностями из жизни известных ему библейских персонажей.
«Он представлял еврейского историка, надо думать, впервые – простому, полуварварскому, но христианскому народу. Что-то из того, чему посвящена была книга, эти люди уже знали из Нового Завета, и он, естественно, был озабочен тем, чтобы связать их новую историческую книгу со знакомым им нарративом Писания» {602}.
Не меньше были оскорблены и иудаисты.
«Славянский Иосиф был написан с целью создания христианской версии Иосифа по-гречески. Славянский Иосиф не может пролить никакого нового света на жизнь Иисуса. Все его абзацы об Иисусе – это вставки, основанные на христианской литературе», – категорически заявлял Шломо Цейтлин в 1948 г. «Напечатав эти христологические абзацы в качестве дополнения к «Иудейской войне», редактор и издатели Loeb Classical Library оказали дурную услугу науке, изучению Иосифа, иудаизма и раннего христианства» {603}.
Это утверждение одного из самых известных иудаистов XX столетия имело бы куда больше веса, если бы в той же статье Шломо Цейтлин не объявил бы подделками только что опубликованные кумранские тексты и не датировал бы «Дамасский документ» VIII в. н. э.
Не повезло славянскому Иосифу и в отечественной науке. А. Н. Мещерский, издавший славянского Иосифа на русском в 1958 г., объявил его, как мы уже говорили, ни более ни менее как «произведением русского автора» {604}. Все вставки, приведенные выше, с точки зрения Мещерского, были вставками русского переводчика, а заявление самого Иосифа о существовании арамейского текста было ни больше ни меньше как «литературной мистификацией» самого Иосифа, «этим стремившегося обеспечить больший интерес со стороны римских читателей к предлагавшейся их вниманию книге» {605}. Каким образом заявление о существовании варварского оригинала увеличивало этот интерес, Мещерский не поясняет.
Трудно, кажется, придумать текст, к которому с таким поголовным неприятием относились бы и англиканские священники, и ведущие иудаисты, и даже советские профессора. Все они единогласно объявляли славянского Иосифа средневековой христианской подделкой, чьи сведения взяты прямиком из Евангелий.
Выше мы постарались показать, почему эта гипотеза не выдерживает критики. Разумеется, в славянском Иосифе (кстати, как и в каноническом) полно христианских интерполяций и смешных ошибок.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
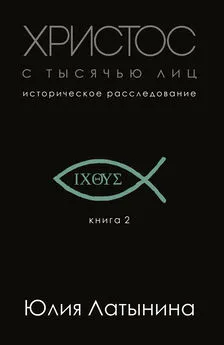

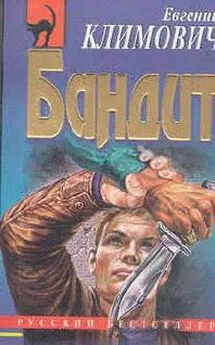
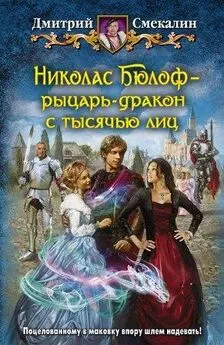
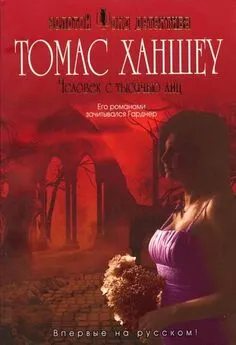
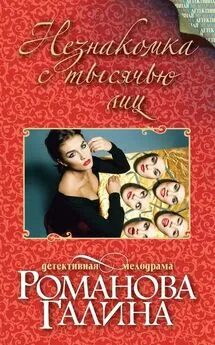
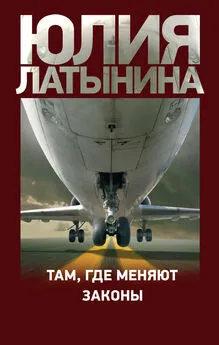
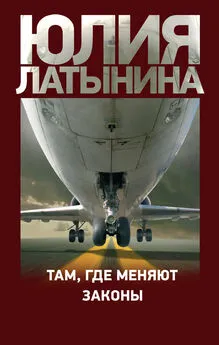
![Томас Хэнши - Человек с тысячью лиц [litres]](/books/1144720/tomas-henshi-chelovek-s-tysyachyu-lic-litres.webp)