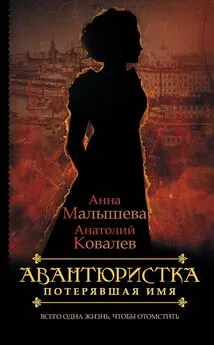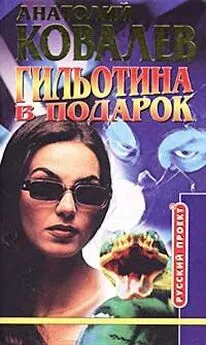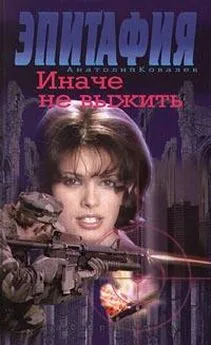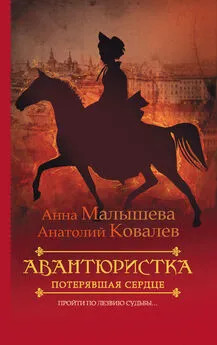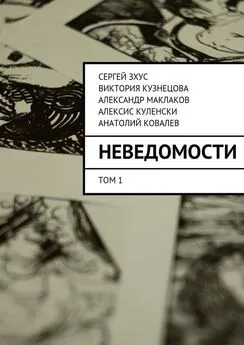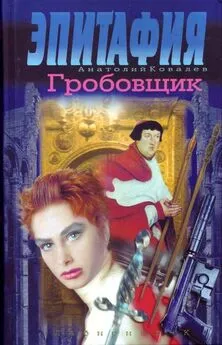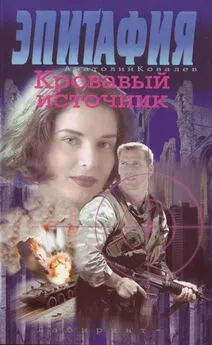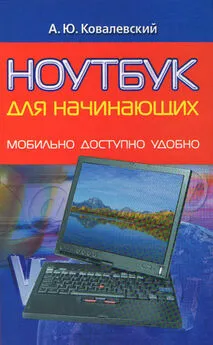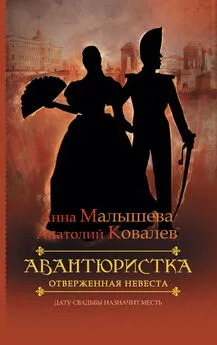Анатолий Ковалев - Потерявшая имя
- Название:Потерявшая имя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Астрель, АСТ
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-064491-9, 978-5-17-065152-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Ковалев - Потерявшая имя краткое содержание
Действие первого романа начинается в 1812 году в Москве, в момент вступления французской армии. Юной героине, графине Елене Мещерской, потерявшей в московском пожаре семью, состояние и положение в обществе, предстоит преодолеть многочисленные трудности и научиться противостоять жестокой судьбе…
Потерявшая имя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
— Ведь правда мой отец оказался не таким уж плохим человеком? — первым делом не без гордости спросила Софи.
— А я винила его во всех своих несчастьях! — расстроилась Елена. — И кажется, в запальчивости даже прокляла. Пусть он меня простит, если сможет…
— Конечно, простит! — ободрила ее подруга. — Постарайся не думать о прежних неприятностях, надейся на лучшее, — наставляла она Елену, — и возьми в дорогу вот это, чтобы не скучать.
Она достала из ридикюля миниатюрный томик «Жиль Блаза» в синем бархатном переплете и протянула его Елене.
— Советуешь не думать о неприятностях, — рассмеялась та, принимая подарок, — а у героя этого романа их было столько, что хватило бы на десятерых.
— Но ведь это роман…
В это время подали карету. Мадам Тома первая открыла дверцу и с надменным видом, ни на кого не глядя, исчезла внутри, сопровождаемая хмурым взглядом кучера, который мигом определил, что с такой пассажирки на водку не получишь. Юные графини расцеловались и поклялись, что как бы не играла ими судьба, они навсегда останутся верными подругами. У Софи рвалась с языка фраза: «Мы связаны с тобой Пожаром навеки!», но из деликатности, дабы не возвращать Элен к трагическим воспоминаниям, она удержалась от произнесения ее вслух.
— Будь счастлива, Софи! — протянула руки Елена. — Обними меня и не поминай лихом!
— Прощай! — ответила дочь губернатора и, обняв подругу, быстро перекрестила ее на католический манер. Впрочем, заплаканная Елена этого не заметила. Она вскочила в карету, кучер захлопнул дверцу, взобрался на козлы и, засвистав, ударил лошадей кнутом. Устроившись на кожаных подушках сиденья, Елена отодвинула шторки и увидела, как в окне медленно поплыла назад знакомая улица. «Прощай, Москва!» Ее сердце наполнялось радостной тревогой. Путешествие сулило много новых открытий, но одна печальная мысль не давала покоя. Она не успела съездить в Новодевичий монастырь попрощаться с прахом дорогих родителей и любимой няньки. «Если бы они знали, что со мной творится! Ах, если бы они знали!» — думала Елена, глядя на желтое лицо сидевшей напротив француженки, которая, не желая вступать в разговор, в это время как раз закрыла глаза.
Глава десятая
«Ужин холостяков» и ужин, который отменила смерть. — Погоня начинается.
Так уж издавна повелось, что в Москве всегда находилось место празднику и зрелищам. Даже в самые суровые годы Первопрестольная умела гулять напропалую, до изнеможения, до предсмертного хрипа. Куда до нее Петербургу с его европейской утонченностью, придворной чопорностью и строгим этикетом! Москвичи, подобно древним жителям Рима, всегда ценили зрелища наравне с хлебом насущным. Не зря губернатор Ростопчин столько внимания уделял массовым увеселениям и театральным эффектам при подходе французов к столице. Обещал, в частности, соорудить невиданных размеров воздушный шар, на котором сразу поместятся пятьдесят человек, а он, градоначальник московский, самолично с этого шара будет сбрасывать на французов бомбы. Шар действительно строился в Москве, но, увы, так и не поднялся в воздух. И уж конечно, Федор Васильевич учел неизбывную любовь москвичей к театру. Даже вечером 31 августа, за день до вступления Наполеона в Москву, когда Белокаменная кипела, как потревоженный муравейник, по его приказу во всех театрах давали «героические пиесы». В Арбатском при полупустом зале шел «Пожарский, или Освобожденная Москва» сочинения господина Крюковского. В других театрах публику морально поддерживали «Дмитрий Донской» Озерова и «Марфа-Посадница» незабвенного Сумарокова. Все эти трагедии наделали много шума пять лет назад, но уже порядочно поднадоели, поэтому, как и многие другие инициативы Ростопчина, выстрелили вхолостую и даже кое-кого разозлили.
В нынешнюю пору, после пожара, Москва испытывала крайний недостаток в зрелищах и увеселениях. Арбатский театр, который перед самой войной принимал знаменитую трагическую актрису мадемуазель Марс, увы, сгорел. Петровский театр сгорел еще раньше, а его бывший директор Миккоэл Медокс еще только грозился удивить Россию и возвести на месте деревянного Петровского огромный каменный театр, который называл не иначе как Большим Оперным домом. У графа Апраксина на Знаменке хоть дом и не был задет пожаром, однако театр сильно пострадал и только еще начинал восстанавливаться. Прославленные Шереметевские театры в Кускове и Останкине после смерти графа Николая Петровича в 1809 году пришли в упадок. Оставалось последнее прибежище для Мельпомены — дом Познякова на Большой Никитской, не затронутый пожаром. В доме этом располагался один из самых богатых по оснащению театров столицы. Именно здесь в двенадцатом году давала представления для Наполеона французская труппа, и поэтому сюда были свезены со всего города уцелевшие от пожара фортепьяно, зеркала и разнообразная мебель. После ухода французов за кулисами были обнаружены богатейшие костюмы из парчи, с позолотой, выкроенные из священнических риз. Здесь же имелись и другие освященные предметы из православных храмов, которые служили бутафорией и декорациями к комедиям Мольера и Бомарше, забавлявших корсиканца с его свитой.
На следующий вечер по отъезде Елены из Москвы в крепостном театре Познякова давалась опера Зюсмахера «Ужин холостяков» в переводе графа Шувалова. Премьера была приурочена к освобождению нашими войсками Пруссии. Ростопчин лично просил господина Познякова о постановке именно немецкой оперы и придавал ей столь же огромное значение, как Государь император освобождению Пруссии. К тому же Федор Васильевич старался рассеять предубеждение московских дворян насчет русского театра, который принято было считать пошлым и второсортным по сравнению с французскими и немецкими труппами. Для этой цели и был выбран «Ужин холостяков», которым москвичи могли наслаждаться перед войной с Гальтенгофом в заглавной роли. Граф рассуждал попросту: если эта опера была им по вкусу на немецком, то она нисколько не проиграет, а, напротив, даже блеснет на русском, в прекрасном переводе Шувалова. Да и наши актеры не хуже Гальтенгофа, а голосами, пожалуй, и посильнее. Кроме всего прочего, губернатор преследовал цель повеселить публику в последний день Масленицы, в Прощеное воскресенье. Графиня Екатерина Петровна наотрез отказалась сопровождать его в театр, заявив, что истинно верующие люди должны в этот день серьезно готовиться к посту, а не надрывать животики, потешаясь над глупостью. Впрочем, граф и не особо рассчитывал на свою набожную, да еще и беременную супругу. Уж ей-то вовсе незачем «надрывать животик»! Он также не надеялся и на Софи, во всем подражавшую матери, и прекрасно знал, что супруга будет также протестовать против «развращения» маленькой Лизы. Граф собирался посетить премьеру только со старшей дочерью, однако маленькая Лиза, «ангельчик», как называл ее отец, внезапно проявила совсем не ангельской твердости характер.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: