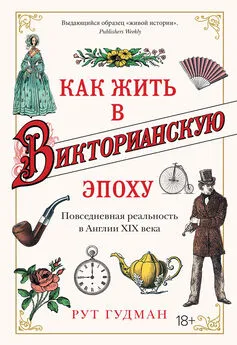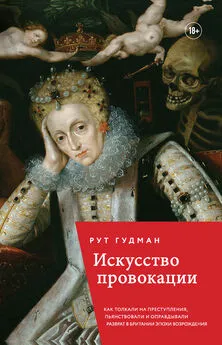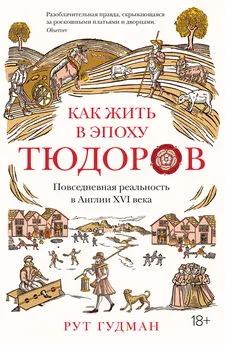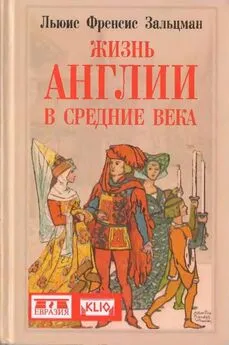Рут Гудман - Как жить в Викторианскую эпоху. Повседневная реальность в Англии ХIX века
- Название:Как жить в Викторианскую эпоху. Повседневная реальность в Англии ХIX века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- ISBN:978-5-389-20236-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Рут Гудман - Как жить в Викторианскую эпоху. Повседневная реальность в Англии ХIX века краткое содержание
«Я хочу изучить историю частного, личного, материального, которая воспевает обыденность и позволяет воссоздать жизнь простых людей, взрослых и детей, через соприкосновение с их бытом. Я намереваюсь понять, как мыслили наши предки, узнать об их надеждах, страхах и домыслах. Я рассмотрю все стороны бытовых будней викторианцев и приглашаю вас туда, где сама бродила в поисках следов той эпохи. В попытках постичь прошлое я с самого начала уделяла много внимания экспериментальному аспекту. Мне нравится погружаться в изучение тех вещей, которые люди создавали и использовали в прошлом, и на собственном опыте узнавать, как это работало». (Рут Гудман)
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Как жить в Викторианскую эпоху. Повседневная реальность в Англии ХIX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Диагноз «истерия» в то время включал в себя целый ряд симптомов. Позднее, в начале XX века, это стали называть нервным расстройством, в 1930-х и 1940-х годах — психическим истощением, а в XXI веке — депрессией. В XIX веке было принято считать, что истерией страдают только женщины. И сам термин, и понимание сущности болезни восходили к древнегреческой медицинской мысли. Согласно этой традиции, матка женщины могла свободно перемещаться в пределах туловища, и ее подъемы и спуски мешали правильной работе всего тела и особенно «разума». Вопреки данным анатомических исследований викторианская медицина утверждала, что между репродуктивными функциями женщины и ее психическим равновесием существует прямая связь (остатки этого убеждения в наши дни прослеживаются в примитивных популярных представлениях о «гормональном поведении» женщин). Методы лечения женщин с истерией отличались большим разнообразием: от «тоников» на основе опиатов до холодных ванн и электрошока в 1880-х и 1890-х годах. Небольшие электростатические машины с ручным приводом широко рекламировали и предлагали для домашнего использования. Многие аптекари держали в соседнем помещении такую машину для проведения лечебных сеансов за небольшую плату. Врачи и медицинские учреждения приобретали более крупные и мощные аппараты. Зарядив устройство, пару контактов прикладывали к разным частям тела — к вискам в случае мигрени или к груди при лечении астмы, — что замыкало электрическую цепь и направляло ток сквозь тело пациента. О широком применении этого аппарата для лечения женской истерии, а также о викторианском понимании болезни в целом свидетельствует то, что большинство аппаратов были оснащены вагинальной насадкой.
11. Дети идут в школу
В викторианский период интерес к школьному образованию и уверенность в его пользе постоянно росли. Образование стали воспринимать не только как средство добиться успеха в жизни, но и как необходимое условие экономического развития нации. Многие участники политической борьбы, выступавшие за введение всеобщего избирательного права (движение чартистов), считали образование важным инструментом, благодаря которому люди смогут использовать свой голос с умом. По мнению других, образованная рабочая сила способствовала повышению производительности и внедрению инноваций. Для третьих это был вопрос защиты нравственных ценностей — образование способствовало распространению понятий о гигиене и здоровом образе жизни, а также религиозных идей.
Самым большим препятствием были деньги. Кто будет платить жалованье учителям, покупать книги, строить школы? Частная благотворительность могла лишь до определенной степени повлиять на решение этих вопросов, финансовые возможности родителей тоже были не безграничны. В самом начале XIX века два человека, Джозеф Ланкастер и Эндрю Белл, ввели в Британии систему, которая обещала существенно сократить расходы на образование и одновременно обучить основам грамотности больше детей. Это была система старост — суть ее состояла в том, что учитель проводил урок для нескольких старших учеников, а те передавали полученные знания группе детей младшего возраста. Джозеф Ланкастер утверждал, что один-единственный учитель может управлять целой школой, независимо от ее размеров, и что всей школе хватит одной книги, чтобы научиться писать буквы, второй — чтобы читать, и третьей — чтобы решать задачи. Он считал, что один образованный человек может обучить пять сотен мальчиков или девочек, и это будет стоить от четырех до семи шиллингов на ребенка в год.
Такие школы представляли собой одно большое помещение с рядом парт посередине, за ними сидели мальчики (в начале века были также школы для девочек и школы со смешанным обучением, но подавляющее большинство предназначалось только для мальчиков), занятые письмом. По стенам в отдельных зонах, которые назывались «драфт», были развешаны грифельные доски. Около этих досок стоя собирались небольшие группы мальчиков, чтобы упражняться в чтении или выслушивать инструкции.
Школьный день начинался рано (в некоторых заведениях в шесть утра). Старшие ученики (старосты), большинству из которых было от 12 до 15 лет, собирались вокруг учителя, который преподавал им дневной урок. Через час приходили остальные ученики и делились на группы, каждая из которых находилась под наблюдением отдельного старосты, следившего за тишиной и порядком. Учитель мог вести урок для всего переполненного класса, а старосты смотрели за тем, чтобы дети младшего возраста хорошо себя вели. Периодически в течение дня староста отводил свою группу к одной из учебных станций. Он вешал на стену текст для чтения и слушал, как мальчики читают вслух, каждый по очереди или хором всей группой. Старостам не нужно было опережать учеников более чем на один урок: в основном они исполняли дисциплинарную, а не обучающую роль. Многие из них были вооружены палкой, которой били своих подопечных. Как все работающие дети, старосты были дешевой рабочей силой и служили основным источником сокращения расходов в новой системе школьного образования. Фредерик Хобли в 1840-х годах был школьным старостой: «Нам платили полпенни в день, то есть два с половиной пенса в неделю, благодаря этому у нас было немного карманных денег». Подробности работы ему почти не запомнились, но через несколько лет, в свои 16, он отправился в Оксфорд, чтобы сдать вступительный экзамен в педагогический колледж. По крайней мере, система старост открыла для Фредерика путь к высшему образованию (см. цветную илл. 18).
Джеймс Бонвик начал обучение в Лондоне в школе на Боро-роуд в Саутуорке, ему было шесть. В самом начале он сидел за одним из «столов-песочниц» в передней части комнаты. На парте у каждого ребенка был поднос с песком, палочка для письма и деревянная или кожаная «гладилка», чтобы стирать следы и разравнивать поверхность. Впереди висел большой плакат с алфавитом, который могли видеть все дети. «Мой маленький учитель указывал букву и выкрикивал ее название, а мы повторяли вслух. Затем он велел нам разровнять перед собой песок и начертить на нем эту букву. Сделав это, мы снова выкрикивали букву вслух». Учителю Джеймса было около 10–12 лет. Освоив алфавит, Джеймс и его одноклассники пересели за следующий ряд парт, где писали уже не на песке, а на грифельных досках. Время от времени их отводили к первому драфту, где они все вместе рассматривали печатную карточку, наклеенную на деревянную доску, и учились узнавать короткие слоги («аб», «ад» и т. д.) и произносить их. Когда староста был уверен, что ученик хорошо усвоил материал своего класса, тот переходил в следующий класс, то есть отсаживался еще дальше и подходил для работы к следующему драфту. Обычно в таких школах обучались дети в возрасте от пяти до 10–11 лет.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: