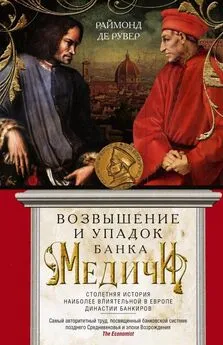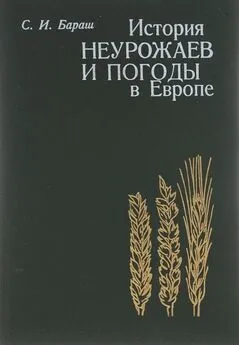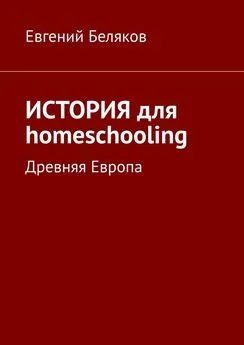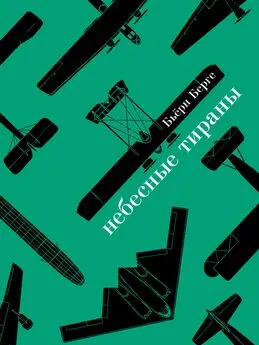Раймон де Рувер - Возвышение и упадок Банка Медичи. Столетняя история наиболее влиятельной в Европе династии банкиров
- Название:Возвышение и упадок Банка Медичи. Столетняя история наиболее влиятельной в Европе династии банкиров
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Центрполиграф ООО
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9524-5386-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Раймон де Рувер - Возвышение и упадок Банка Медичи. Столетняя история наиболее влиятельной в Европе династии банкиров краткое содержание
Возвышение и упадок Банка Медичи. Столетняя история наиболее влиятельной в Европе династии банкиров - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Записи в личной бухгалтерской книге Сассетти исчерпывающе доказывают, что размер процентного дохода на разных депозитах колебался от 8 до 10 %. В миланском филиале иногда выплачивали до 12 %. Ничто не объсняет природу таких колебаний; возможно, они зависели от прибыли, от конъюнктуры денежного рынка или от срочной потребности заемщика в кредите. Во всяком случае, депозиты под 12 % едва ли можно назвать выгодными, поскольку трудно было найти безопасные инвестиции, которые приносили бы больше дохода и оставляли прибыль для банка. Анджело Тани в письме из Лондона 9 мая 1468 г. жаловался старшим партнерам, что не может всегда просить «с широко раскрытым ртом», чтобы занять под 12 или 14 %, потому что в таком случае процентные выплаты поглощают почти всю прибыль. Далее он просил перевести без процентов в лондонский филиал 3 тыс. фунтов стерлингов на покупку шерсти, чтобы вести дела с прибылью и покрыть убытки.
Насколько важным источником финансирования были срочные вклады? Конечно, филиал Банка Медичи при Римской курии, в котором не было капитала, получал основную часть средств с помощью депозитов. Судя по балансу за 1427 г., общая сумма депозитов составляла 71 тыс. камеральных флоринов, из которых 58 тыс. флоринов составляли счета в libro segreto, а 13 тыс. флоринов – в главной книге. Вдобавок в римском филиале имелся счет почти на 25 тыс. флоринов, принадлежавших Апостольской палате (папское казначейство). Поэтому общая сумма составляла почти 100 тыс. флоринов, что почти вчетверо превышало капитал всех филиалов и отделений Банка Медичи, вместе взятых (таблица 10). Судя по данным за тот же 1427 г., депозиты в компании Медичи в Венеции играли не такую важную роль, и тем не менее достигали суммы в 800 фунтов гроот или 8 тыс. дукатов, что равнялось капиталу отделения. В то же время в флорентийском отделении банка имелось несколько срочных вкладов, сделанных внешними вкладчиками, среди них Фантино де Медичи в Барселоне (4400 флоринов), Пандольфо Контарини из Венеции (2 тыс. флоринов) и мессер Гиригоро де Марсуппини из Ареццо (1 тыс. флоринов). Кроме того, отделение во Флоренции имело большие задолженности перед римским и венецианским филиалами. К сожалению, депозиты в балансе не отделялись от других счетов.
Более поздние данные отличаются неполнотой, так как в источниках много пробелов. Во всяком случае, вклады, сделанные в миланском филиале внешними вкладчиками, в 1460 г. доходили до 97 690 имперских фунтов, больше чем вдвое превышая капитал отделения, составлявший 43 тыс. имперских фунтов. Кроме того, в венецианском филиале имелся депозит в размере 41 600 имперских фунтов, не включенный в итог. Лионский филиал, судя по балансу, составленному в конце 1466 г., был должен вкладчикам около 42 тыс. экю (1/64), как по libro segreto, так и по libro grande (главной книге), в то время как его капитал составлял не более 12 400 экю.
Как показывают эти цифры, ресурсы Банка Медичи, благодаря вкладам состоятельных клиентов, в несколько раз превышали инвестированный капитал. К сожалению, данные слишком неполны и не дают более точных сведений, особенно после 1460 г. О том, как эти средства использовались в финансах, торговле и промышленности, будет рассказано в следующих главах.
Глава 6
Банковское дело и валютный рынок во времена Медичи
В Средние века, эпоху Возрождения и эпоху меркантилизма купцы и торговые банкиры не специализировались на какой-то одной отрасли предпринимательской деятельности, а в целом стремились к диверсификации. Они не пренебрегали никакими возможностями получения прибыли. При внимательном прочтении дошедших до нас балансов становится ясно, что Банк Медичи, не ставший исключением из общего правила, гораздо больше был занят банковскими операциями, чем торговлей, а ссуды в том или ином виде поглощали почти все его ресурсы. Промышленное производство, как мы уже видели, играло не большую роль в качестве источника дохода.
Все соглашения, связанные с флорентийским отделением и заграничными филиалами, неизменно доказывали, что та или иная компания создавалась с целью занятий обменом и торговлей – с Божьей помощью и надеждой на удачу. В XV в. банковское дело было в большой степени, если не исключительно, привязано к обмену, и выражения fare il banco (управлять банком) и fare il cambio (заниматься обменом) считались синонимами. Такие банки, как Банк Медичи, в основном занимались обменом. Конечно, обмен не сводился к буквальному, ручному обмену – такие операции оставались прерогативой менял. Главным образом в Банке Медичи осуществлялся обмен переводными векселями. Естественно, покупка коммерческих бумаг была не единственным способом предоставления кредита, но оставалась более привычной в среде коммерсантов, которые действовали на денежном рынке. Займы правителям предоставлялись совершенно на другой основе, поскольку условия таких займов определялись не конъюнктурой денежного рынка, а прежде всего льготами, предоставляемыми заемщиком, и ожиданиями относительно его способности вернуть долг в свой срок.
При обсуждении средневекового денежного рынка не следует забывать об отношении церкви к ростовщичеству. Коммерсанты, которые в открытую совершали операции на денежном рынке, не могли себе позволить пренебрегать учением церкви. К счастью, богословы, рассматривавшие данный вопрос с юридической точки зрения, облегчили для банкиров возможность вкладывать деньги с прибылью, если те трактовали займы как обмен. Как было показано в главе II, такие операции, как учет переводных векселей, долговых расписок или иных кредитных инструментов, считались откровенным займом под проценты и потому ростовщичеством. Однако обменные операции считались уже не ростовщичеством, а законными операциями, которые церковь вполне одобряла. Cambium (договор об обмене) не считался прямым займом и потому, как утверждали богословы, о ростовщичестве речь не шла при условии, что обмен был подлинным, а не уловкой для сокрытия ростовщической сделки, как в случаях так называемого «сухого» или фиктивного обмена.
Практическим результатом такого подхода стала привязка банковских операций к обменным. Подобный порядок сохранялся в континентальной Европе вплоть до начала XIX в. Англия была исключением, потому что лондонские ювелиры около 1620 г. разработали систему учета отечественных векселей.
Средневековый переводный вексель был не просто мандатом на выплату, но, как ясно из названия, всегда основывался на переводных операциях. Точнее, переводный вексель был широко распространенным средством для внедрения обмена. Договор обмена подразумевал внесение денежных средств в одном месте и их выплату в другом месте – причем, как правило, в другой валюте. Таким образом, по определению кредитная операция была неразрывно связана с переводной операцией. Из-за неспешности средств сообщения даже вексель на предъявителя становился кредитным инструментом, так как проходило немало времени, пока документ из места, где его выпустили, попадал в то место, где он подлежал оплате. Богословы весьма настаивали на соблюдении принципа distantia loci (отличия места выдачи от места платежа), но склонны были преуменьшать значение того, что отличие места непременно включало и разницу во времени (dilatio temporis). Как изящно выразился юрист Рафаэль де Турри, или Раффаэле Делла Торре (ок. 1578–1666): distantia localis in cambio involvit temporis dilationem («отличие в пространстве также включает в себя разницу во времени»). Хотя он не мог отрицать, что договор об обмене по сути являлся займом с привнесением иных черт, он написал громоздкий трактат, полный ссылок на Аристотеля, Фому Аквинского и многочисленных схоластов, чтобы доказать, что обменные операции не запятнаны ростовщичеством. Иными словами, обменная операция использовалась для того чтобы оправдать прибыль в кредитной операции. Вот что стало источником всех аналитических трудностей и противоречий, ловушкой, в которую схоласты, как оказалось, сами себя загнали.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: