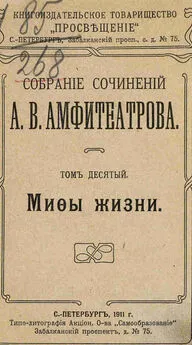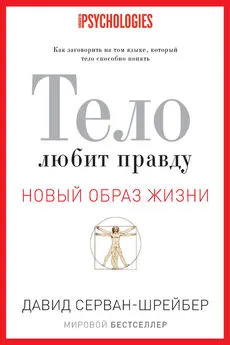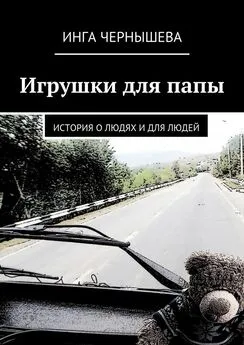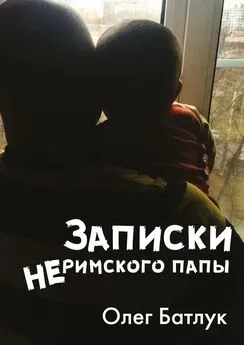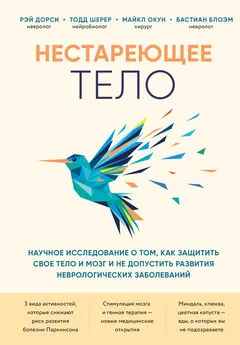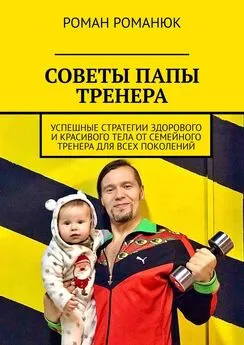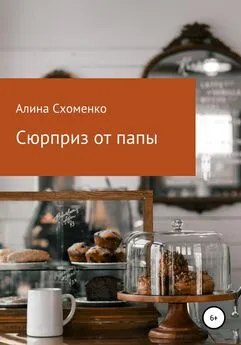Агостино Паравичини Бальяни - Тело Папы
- Название:Тело Папы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-127223-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Агостино Паравичини Бальяни - Тело Папы краткое содержание
В основе книги – рассуждения автора о сущности власти, о божественном и природном в человеке. Мир римских пап с мечтами о долголетии и страхом смерти, спорами о хрупкости тела и бессмертии души предстает перед нами во всем его многообразии.
Перевод книги на русский язык выполнил российский медиевист, доктор исторических наук, специалист по культуре средневекового Запада Олег Воскобойников.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Тело Папы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Размышления Анджело Рокки восходят к той позиции, которая, как мы видели, впервые четко сформулировали в XIII веке. Начиная с Церемониала Григория X (1273) двойное красно-белое облачение отсылало к подражанию империи, но в еще большей степени – к полноте власти папы и к христологической природе его служения. В то время папа уже стал наместником Христа, то есть «личностью Христа», persona Christi, а тело папы – институциональным средостением Римской церкви, подобно тому как кардиналы в экклезиологии определялись как «часть тела папы», pars corporis papae. По Гильому Дюрану, красный отсылал к мученичеству Христа, белый – к чистоте и безгрешности жизни. Этот образ – плод сугубо схоластической логики: властная функция, внешне символически явленная мантией, должна соответствовать белизне «внутреннего облачения». Литургисты XIII и конца XVI веков связаны между собой непрерывной традицией: белое одеяние указывает на христологическую природу папского служения и на безгрешность правящего понтифика.
Обилие прямых отсылок к красно-белому одеянию папы в XIII веке совпало с фактической победой белого, то есть того цвета, на который источники предшествующего времени вовсе не указывали. Эта победа закрепилась в период Контрреформации: литургисты Сикста V утверждали, что именно белый цвет являет тело папы, corporis apparentia, то есть символически очищает его жизнь и демонстрирует его роль persona Christi. Полное совпадение можно констатировать и между белыми одеяниями и обрядом с восковыми агнцами, который мы реконструировали в начале этой главы. Белизна будничной одежды понтифика вместе с фигурками агнцев призваны были символически разрешить противоречие между хрупкой телесной оболочкой и высочайшим служением, которым папа был облечен.
Из вышесказанного следует заключить, что начиная с XI века, особенно в XIII столетии, тело папы стало предметом как ритуальной, так и риторической рефлексии: белизна гарантировала его символическое очищение, а тема смертности и кратковременности, о которой шла речь с самого начала, напоминала о неизбежности смерти.
Сам собой встает новый вопрос. Как проявлялся этот двойной – ритуальный и риторический – дискурс в тот момент, когда папа действительно уходил из жизни? Как именно Римская церковь разрешала тогда проблемы, так часто встававшие в ритуальной форме в литургии бренности и кратковременности при жизни папы? Как она встречала тот «страшный миг», о котором писал Петр Дамиани? Каким образом в апостольском преемстве усопших понтификов уживались элементы величия и невинности, символически воплотившиеся в фигуре папы? Одним словом, рассмотрев, как «складывалось» тело папы при жизни, мы должны увидеть, как оно разрушалось, не затронув тот порядок, которому тело метафорически принадлежало.
Часть вторая. Смерть папы
I. Новые пространства и новые времена
Защитить дворец
Как и при знакомстве с обрядами бренности, чтобы рассмотреть смерть папы, нам нужно вернуться в середину XI века, в понтификат Льва IX (1049–1054). Два эпизода этого времени обращают наше внимание на грабежи, которые происходили после смерти епископа или папы. Первый из них произошел не в Риме, но соответствующее папское послание для нас важно, в том числе, потому, что написал его не кто иной, как Петр Дамиани, чьи размышления о бренности и смерти папы сопровождают нас с самого начала.
Что произошло? Около 1049 года жители Озимо, городка в Марке, рядом с Анконой, когда не стало их предстоятеля, захватили и разграбили епископский дворец, порубили виноградник и кусты, сожгли дома крестьян. Неизвестно, вызвано ли было такое народное возмущение каким-то проступком покойного. Зато папе Льву IX оно дало повод поручить Дамиани написать суровое обличение того, что он назвал «скверным обычаем». Соответствующее послание, составленное в начале понтификата (1049), содержит длинное рассуждение о незаконности подобных ограблений [428]. Аргументация Дамиани основана на противопоставлении физической бренности церковного пастыря и бессмертии Христа, «епископа всех наших душ», «бессмертного супруга Церкви», «вечного первосвященника» [429]. Иными словами, после смерти епископа остается Церковь, то есть Христос. Это послание имеет большое историческое значение: именно здесь впервые со всей ясностью проводится различие между физической персоной епископа и вечностью Церкви.
Во втором интересующем нас эпизоде участвовал непосредственно понтифик. Утром 18 апреля 1054 года тяжело больному Льву IX видение предрекло скорую кончину. Он попросил направившихся в базилику Святого Петра клириков перенести туда его мраморный саркофаг, а затем приказал принести туда его самого прямо на ложе [430]. Как только новость разнеслась, римляне побежали в Латеран, чтобы, «как обычно», разграбить дворец. Однако автор жизнеописания добавляет, что «по заслугам и добродетелям блаженного предстоятеля никому не удалось проникнуть во дворец. Испуганные римляне, пристыженные, удалились». И тогда, сидя на смертном одре, Лев IX произнес в базилике Св. Петра речь, посвященную сохранению имущества Церкви, что согласовывалось с программой «свободы Церкви», libertas Ecclesiae [431].
Прежде чем исторически осмыслить эти два свидетельства, напомним, что разграбление и кража имущества прелатов зафиксированы с очень древних времен. Мы узнаем о них в первые века христианства. Уже Халкидонский Собор 451 года угрожает понижением в иерархии тем клирикам, которые украдут имущество ушедшего из жизни епископа [432]. В 533 году синод в Орлеане попытался искоренить хищение достояния умершего епископа, возложив прямую ответственность за сохранение епископской резиденции на епископа, призванного возглавить похоронную церемонию. Здесь тоже дело касается только клира [433]. Постановление синода в Валенсии (546) аналогичным образом поставило в обязанность клириков, обвиненных в разграблении вещей епископа на пороге смерти, защищать и сохранять наследие усопшего предстоятеля [434]. Собор в Париже 615 года увещевает соблюдать последнюю волю епископов и клириков, а непослушным, клирикам и мирянам, угрожает отлучением «от церковной общины или от христианского общежития» [435]. Шалонский собор (650), в свою очередь, запрещает епископам и архидьяконам присваивать имущество умерших священников и аббатов [436]. Последним на этот счет высказался Толедский собор 655 года. Его IX постановление следует валенсийскому: возглавляющий церемонию погребения епископ отвечает и за сохранность имущества [437].
Как можно видеть, все эти постановления почти исключительно относятся к преступлениям клириков, живших рядом с покойным епископом или близких к нему. Они возлагают сохранение резиденции и храма на епископа, призванного для погребения. И лишь один синод V–VII вв. (Париж, 615 г.) указывает на участие мирян в разграблении имущества усопшего прелата [438].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: