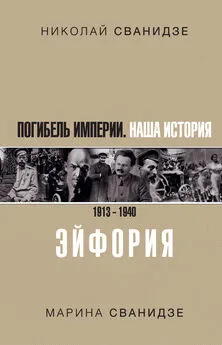Николай Сванидзе - Погибель Империи. Наша история. 1918-1920. Гражданская война
- Название:Погибель Империи. Наша история. 1918-1920. Гражданская война
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- ISBN:978-5-17-108897-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Сванидзе - Погибель Империи. Наша история. 1918-1920. Гражданская война краткое содержание
Погибель Империи. Наша история. 1918-1920. Гражданская война - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Больше всего расстреливали в Севастополе. И в Херсонесе. В Херсонесском Свято-Владимирском монастыре был концлагерь. Там тоже расстреливали. Многих сбрасывали с берега, привязав к ногам камни. Человеческие тела рядами стояли в рост под водой. Водолаз, случайно увидевший это зрелище, сошел с ума. В Севастополе еще и вешали. На Приморском и Историческом бульварах, Нахимовском проспекте, Екатерининской улице, на фонарях, на столбах, на деревьях висели тела. В форме, при погонах.
Дня через три дело дошло до тех, кого сначала отпустили. Была назначена новая регистрация. Теперь ей подлежали не только военные, но и священники, юристы, сестры милосердия, врачи, журналисты и вообще все «непролетарии», включая женщин и детей. Зарегистрировали и перешли к расстрелам.
Все это – поиски и отработка технологии массового уничтожения. Крым – полигон. Ленин из Москвы требовал работы, цитирую, «без идиотской волокиты». И работа шла. Архивы сохранили большой массив документов.
22 ноября 1920 года начальник особого отдела ВЧК Южного фронта Манцев председательствовал на заседании тройки при рассмотрении дел на 117 человек, на 154 человека и еще на 857 человек. Это в один день. Все расстреляны. 24 ноября тройка Особого отдела 6-й армии приговорила 16, 25 и 28 человек. В тот же день тройка особой фронтовой комиссии ВЧК 4-й армии – 200 человек. 7 декабря той же тройкой приговорены 82 человека. 19 декабря она же – 159 человек. Все перечисленное – только в Симферополе. В Феодосии тройка 13-й армии 4 декабря вынесла постановление о расстреле 287 человек, часть из которых была изрублена конниками. Кавалеристы скучали без дела во время расстрелов и упражнялись в снесении голов. По ложному обвинению в создании «антисоветской организации» расстреляны 3 гимназиста и 4 гимназистки в возрасте 15–16 лет.
В Ялте 7 декабря расстреляны 325 человек. 21 декабря – 101 человек. В списке расстрелянных под номером 16 идет Барятинская Надежда Александровна, уроженка Санкт-Петербурга, княгиня, 1847 года рождения. То есть ей 73 года. Арестована была по доносу горничной.
В Евпатории среди прочих расстреляна 15-летняя Мария Курбатская, работавшая в госпитале. Арестовали случайно, но не отпускать же. В документах сохранилась фамилия того, кто ее расстрелял. Он отчитывался в рапорте, цитирую: «Мною Курбатскую расстреляно в 23 часа 5 минут 2 декабря 1920 года. Красноармеец Рубежов». 8 декабря в Евпатории расстреляны 122 человека. В Керчи 7 декабря расстреляли 174 человека, 9 декабря – 76 человек, 14 декабря – еще 76. А в перерывах между партиями стреляли по 1–2 человека. И так продолжалось до весны 1921 года. Большевистское ноу-хау отработано, массовое уничтожение идет технологично. Тройки особых отделов выносят постановления о расстреле на целые списки людей. Приговор – слово «расстрелять» – пишется по вертикали, вдоль списка фамилий.
На личных анкетах есть предварительное решение председателя тройки – казак, расстрелять / поручик, расстрелять / буржуй, расстрелять / беженец, расстрелять. Перечисленные признаки – казак, буржуй, священник, сестра милосердия – являются признаками состава тяжкого преступления, влекущего расстрел.
Обвиняемые не допрашиваются, лично обвинение не предъявляется. Права на защиту нет вообще. И наконец, для большевиков допустимо убийство больных, раненых, персонала госпиталей и служащих Красного Креста. В Крыму уничтожено 15 тысяч больных и раненых. Собственно с этого и начали.
А в Москву шли донесения о том, что работа в Крыму идет энергично, с редким энтузиазмом, с огоньком.
11 декабря
11 декабря 1920 года Ленин председательствовал на заседании Совета народных комиссаров, то есть вел заседание правительства. Перед началом он просмотрел повестку дня и дополнил ее, написав «Об уничтожении Сухаревки». И потом выступил по этому вопросу. Через день, 13 декабря, Моссовет принял постановление «О ликвидации Сухаревского рынка».
То есть вопрос о судьбе московского рынка обсуждался ни много ни мало на заседании правительства, и решение по рынку реализуется моментально. И значит, Сухаревский рынок, не один век известный как Сухаревка, – это больше чем просто рынок. Ленин и не скрывает, что Сухаревка для него – обобщающее понятие. «Сухаревка… везде, где есть мелкий хозяин, а таких хозяев у нас десятки миллионов. Вот в чем настоящая опасность», – говорит Ленин и подчеркивает, что мелкие хозяева, как говорится, малый и средний бизнес, представляют собой большую политическую опасность, чем крупный капитал. Крупный капитал легко держать под контролем.
Вот Ленин намерен впустить в советскую экономику иностранных капиталистов с их инвестициями, но с ними он не видит проблем. Крупный капитал, говорит Ленин, «будет у нас обставлен специальным надзором со всех сторон». Крупный капитал будет ВЧК контролировать. А вот множество мелких и средних хозяев, с их самостоятельностью, собственностью и свободной торговлей – это настоящие враги большевиков. Ленин говорит: «Страшна сухаревка, которая живет в душе и действиях каждого мелкого хозяина». И тут необходимо уточнить, что мелкий хозяин, ненавистный Ленину, это русский крестьянин. Ленин хочет забирать у него все, что он производит, сосредоточивать в руках государства и распределять в соответствии с интересами власти. А крестьянину, в свою очередь, давать гвозди, спички, ситец и прочие промтовары тоже по усмотрению государства.
Но в стране голод. И даже верующие в скорую победу коммунизма не до конца понимали, почему же необходимо отказаться от свободной торговли. Сохранились воспоминания, что в ходе одной из встреч Ленина с товарищами из глубинки задал вопрос член партии, типографский рабочий Мошкин. Он спросил: «А будет ли разрешена свобода торговли?» Ленин с готовностью ответил: «Ну что ж, это зависит от вас. Если хотите, чтобы возвратился городовой, жандарм, полицмейстер, министр, царь, тогда надо возвратить и свободу торговли. А если не хотите – придется обойтись без нее».
Этот ответ – классическая ленинская демагогия, не имевшая ничего общего с реальностью, о которой знала вся страна. Несмотря на запрет, торговля шла. Иначе, и это не преувеличение, в городах все просто умерли бы с голоду. Магазины заколочены, но торгует улица. В Москве эпицентр торговли – Сухаревский рынок на одноименной площади, знаменитая Сухаревка. Даже легендарная Сухаревка.
Как рынок она приобрела славу в 1812 году. После изгнания французов из Москвы жители, вернувшись в город, стали разыскивать свои вещи. Пошли ссоры, тяжбы, где, у кого чьи вещи. Тогда московский генерал-губернатор Ростопчин объявил, кто что у себя в доме нашел, то и может считать своим. А если хочет продать – может продавать по воскресеньям на площади у Сухаревой башни. Многие находили там и покупали собственные вещи.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
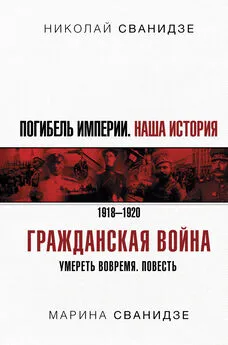

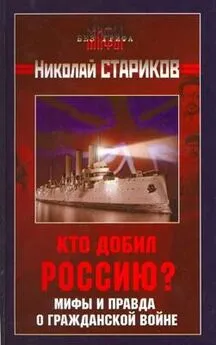
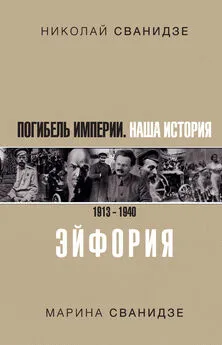
![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/1087587/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda.webp)
![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/1087588/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn.webp)