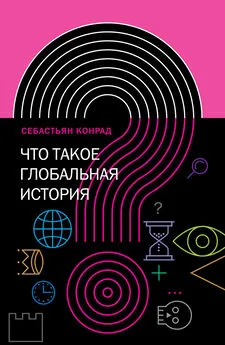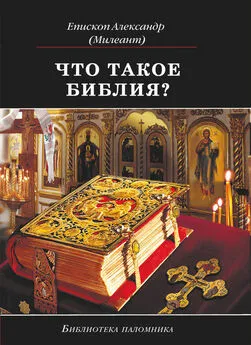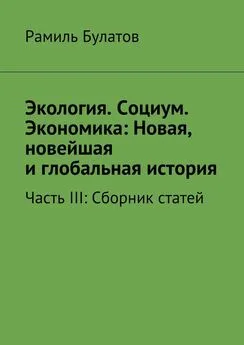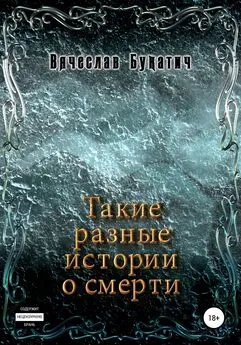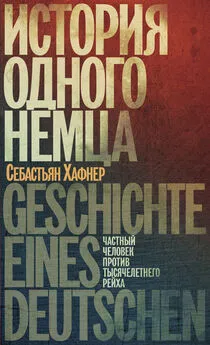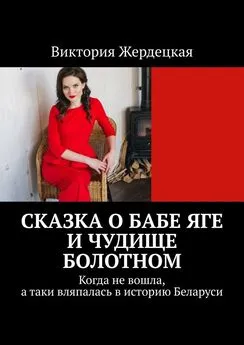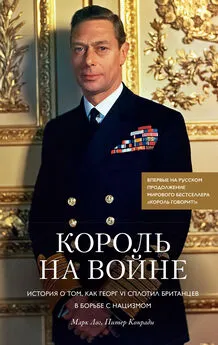Себастьян Конрад - Что такое глобальная история?
- Название:Что такое глобальная история?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1008-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Себастьян Конрад - Что такое глобальная история? краткое содержание
Что такое глобальная история? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Такая «этнографическая» точка зрения не была самоцелью, но часто совпадала с интересами власти. Когда, например, Сыма Цянь описывал кочевников за пределами китайской цивилизации, в подтексте прочитывалась тема дальнейшей экспансии Китая [28] См.: Stuurman S. Herodotus and Sima Qian: History and the Anthropological Turn in Ancient Greece and Han China // Journal of World History. 2008. № 19. P. 1–40; Hardy G. Worlds of Bronze and Bamboo: Sima Qian’s Conquest of History. New York: Columbia University Press, 1999.
. В конечном итоге описываемые «миры» – обычно ограниченные соседними территориями и регионами – понимались авторами под углом зрения своей собственной культуры. Разумеется, бывали историки, которые прямо заявляли о том, что их задача – описать иные сообщества как бы изнутри, не превращая свой рассказ в перечень диковинных обычаев чужестранцев. Иноземные институции следовало объяснять в функционалистских терминах, в соответствии с их внутренней логикой. Однако в оценках и моральной классификации «чужих» авторы исходили в основном из представлений, свойственных их собственной культуре [29] Hartog F. Le Miroir d’Hérodote. Paris: Gallimard, 2001; Wang Q. E. The Chinese World View // Journal of World History. 1999. № 10. P. 285–305; Wang Q. E. World History in Traditional China // Storia della Storiografia. 1999. № 35. P. 83–96.
.
Такие парадигмы были характерны для большинства историографических традиций по всему миру. Встречались, конечно, разные варианты как внутри одного региона, так и между разными областями. Древнегреческая историография имеет мало общего с позднейшей христианской, нарративы которой основывались на понятии божественного Провидения. В немусульманских странах Южной Азии, где историография как отдельный жанр не сформировалась вплоть до колониального периода, всемирно-исторических моделей практически не было; то же можно сказать и об Африке. В мусульманской традиции, напротив, можно обнаружить начатки отдельных важных прорывов в мировую историю. Их обычно связывают с подъемом ислама, который его адепты считали единственной религией, выполняющей всемирную миссию. Вдобавок к упоминавшимся выше аль-Масуди и Рашиду аль-Дину (1247–1318), которые прямо обращались не только к персидской аудитории, но и к монгольским и китайским читателям и столь же подробно, как о своих странах, писали об Индии и Китае, заслуживает внимания также ибн Халдун (1332–1406) и прежде всего его главный труд «Аль-Мукаддима», представляющий собой на самом деле только введение в историю человечества. Это сочинение считается истоком научной исламской историографической традиции, основанной на причинно-следственных объяснениях.
Таким образом, историографические традиции и ракурсы мироописания в разных концах света имеют большие различия. Однако есть и сближающие их сходные черты. В каждом случае «мир» строился на основании взгляда из своей собственной ойкумены. Это прежде всего означало, что прошлое – включая и прошлое других народов и групп – осмыслялось и оценивалось в соответствии с критериями морального и политического кодекса ценностей того общества, к которому принадлежал историк. Понятие «мир» не значило «наша общая планета», как сегодня, но «подразумевало только тот мир, который имел значение» [30] Dirlik A. Performing the World. P. 407.
.
Соответственно, нарративы создавались с определенной задней мыслью о цели – будь то развитие человечества по направлению к христианскому Царству Божию, или к созданию Дар-аль-Ислама (буквально «Дома Ислама», охватывающего все территории под властью мусульман), или к постепенному включению неграмотных варваров-кочевников в конфуцианскую китайскую цивилизацию [31] См.: Iggers G., Wang Q. E. A Global History of Modern Historiography. New York: Pearson Longman, 2008; Woolf D. (ed.). The Oxford History of Historical Writing: In 5 vol. Oxford: Oxford University Press, 2011–2012.
.
Картины всемирной истории XVI–XVIII столетий
Главные установки ойкуменической историографии в основном сохранялись вплоть до XIX века. Это не означает, однако, что ничего не менялось. По временам, особенно когда усиливался обмен между регионами и континентами, соответствующим образом росло и знание о других мирах, интерес к иным культурам и желание понять и оценить собственное общество в широком контексте. Множество трактатов, написанных в разных странах начиная с XVI века и далее, откликалось на эти требования.
Примером может служить начавшаяся в XVI веке интеграция Северной и Южной Америк в большую, постоянно расширяющуюся сферу торговых взаимосвязей и знаний. Эти трансконтинентальные взаимодействия, которые привели обе Америки к контактам с Африкой, Европой, Ближним Востоком, Восточной и Юго-Восточной Азией, представляли собой когнитивный и культурный вызов, и в контексте этого вызова постепенно складывалось представление об истории во всемирном масштабе – альтернативе традиционным формам династической историографии [32] Subrahmanyam S. On World Historians in the Sixteenth Century // Representations. 2005. № 91. P. 26–57.
.
Модели всемирной истории стали возникать повсеместно. Уже в 1580 году в Стамбуле была написана «История Западной Индии» ( Tarih-I Hin-I garbi ) – попытка понять неожиданное расширение горизонта и возникшую после открытия Нового Света космологическую дилемму. «С тех пор как пророк Адам сошел на землю, – писал анонимный хроникер, – и вплоть до сего дня не случалось столь странного и удивительного события» [33] Цит. по: Gruzinski S. What Time Is It There? America and Islam at the Dawn of Modern Times. Cambridge: Polity Press, 2010. P. 73.
. В Мексике уроженец Гамбурга Генрих Мартин, который прежде много лет жил в Прибалтике, написал откровенно американскую версию мировой истории. Он считал, например, что обе Америки были заселены народами, пришедшими из Азии, поскольку американские аборигены напоминали ему коренное население Курляндии. Стамбульский хроникер и Мартин создавали свои мировые истории почти одновременно, что свидетельствует о влиянии открытия Колумба на умы по всему миру. Их версии тем не менее разительно отличаются друг от друга, как отличались и те сообщества, к которым принадлежали авторы. Всемирно-исторический процесс – открытие Америк – подвел мир к решению важной проблемы, однако реакции, последовавшие на это событие, были во многих отношениях несопоставимыми.
Упомянутые два историка ни в коем случае не были единственными в своем новом общепланетарном взгляде на историю. Последующие примеры включают: 1) турецкого историка Мустафу Али (1541–1600), чей трактат «Сущность истории» ( Künh ül-Ahbâr ) поместил Оттоманскую империю в центр того, что автор считал значимым миром, однако при этом в книгу вошли также обширные штудии, посвященные монгольской империи и трем современным империям, которые автор полагал наиболее важными, – узбекской, персидской империи Сефевидов и индийской империи Великих Моголов; 2) Доминго Чимальпаина (1579 – около 1650), поместившего свою историю Мексики, написанную на науатле (языке ацтеков), в широкий мировой контекст, включавший, помимо Европы, Китая и Японии, Монголию с Московией, Персию и часть Африки; 3, 4) итальянца Джованни Баттисту Рамузио (1485–1557) и поляка Марцина Бельского (1495–1575), которые сумели создать своего рода «кабинетную» всемирную историю на основе постоянно растущего числа сообщений о событиях за пределами Европы; и 5) Тахира Мухаммада в Индии Великих Моголов, охватившего в своих сочинениях в начале XVII столетия такие места, как Цейлон, Пегу, Ачех и даже Португальское королевство [34] Subrahmanyam S. Op. cit. P. 37; Gruzinski S. Les quatre parties du monde: Histoire d’une mondialisation. Paris: Martinière, 2004.
.
Интервал:
Закладка: