Дмитрий Агалаков - Воевода Дикого поля
- Название:Воевода Дикого поля
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Вечеe7ff5b79-012f-102b-9d2a-1f07c3bd69d8
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4444-7850-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Агалаков - Воевода Дикого поля краткое содержание
Вторая половина XVI века. Маховик долгой и кровавой Ливонской войны медленно набирает обороты, втягивая в свою орбиту тысячи людских судеб. Не избежал ее и князь Григорий Засекин. Молодой воевода честно воевал и в Дерпте, и под Феллином, участвовал во взятии Полоцка, был лично знаком с князем-диссидентом Андреем Курбским и даже, по версии автора, помог ему скрыться от опричников. Счастливо избежав молота опричнины, Засекин был «брошен» царем на укрепление юго-восточных рубежей Руси – создание Волжской засечной черты, за что и получил прозвище «воеводы Дикого поля».
Воевода Дикого поля - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Литовский полководец влетел с отрядом на холмы, где держал уже обреченную быть сломанной оборону князь Засекин, и они оказались почти лицом к лицу. Невеликое расстояние теперь разделяло их. Но Андрей Курбский был победителем, окруженным надежными рыцарями, уже вволю вкусившими русской крови, готовыми к новым подвигам, а вокруг Григория царили сумятица, паника, общая и неизбывная гибель.
Их взгляды пересеклись – Курбский узнал его! И тогда – воевода Засекин мог в том поклясться! – они одновременно вспомнили одну и ту же фразу, оброненную русским беглецом рядом с Дерптом: «Я твоей услуги никогда не забуду: ты помни об этом, и я помнить буду!»
– Уходи, Засекин! – яростно прокричал Курбский, махнув сверкающим мечом. – К озерам уходи! Я мимо пройду! Уходи!
И тогда Григорию стало ясно: битва проиграна окончательно, сам он на пороге смерти, так что выбрать? Но в такие минуты, знал он так же хорошо, каждый – за себя. А Курбский слово сдержит – отпустит его. Все решили мгновения. Кивнув литовскому полководцу, он повернул коня и рванул за отступающими стрельцами, которых сейчас по обоим флангам давили польско-литовские рыцари. И еще Григорий сердцем знал, перелетая на коне через трупы своих и молясь, чтоб не зацепила его ненароком вражья стрела, что теперь уже точно никогда не увидит князя Андрея – их дороги стремительно разбегались в разные стороны…
Победа польско-литовских рыцарей под пограничным городом Озерище стала не единственным поражением русских войск. Вся евроазиатская политика Москвы трещала по швам. До решающего наступления Сигизмунд II Август вошел в союз с Девлет-Гиреем, тот выдвинул свою армию из Крыма на север и скоро был под Рязанью. Алексей Басманов, погубивший большинство полководцев Иоанна, должен был доказать, что и он способный воевода. К счастью, в Рязани оказалось много его имений, и служилые дворяне, ему подчинявшиеся, сплотившись по первому требованию, смогли отстоять город. Любое уклонение впоследствии могло грозить им самим и их семьям жестокой смертью. Но стремительный набег крымцев оказался опустошительным и кровавым. Царь запаниковал: еще недавно он смело шагал по Литве, а теперь его теснят со всех сторон! Поражения, нанесенные крымцами и Литвой, заставили его отступить и на северной Балтике – осенью все того же 1564 года Иоанну пришлось отдать шведам, казалось, завоеванные на веки вечные крупнейшие прибалтийские города-крепости Ревель и Пернов. Хорошо еще, шведы не пошли дальше: благодаря дипломатическим способностям дьяка Висковатого, возглавлявшего посольский приказ, Русь заключила с королем Швеции семилетний мир.
Царь стремительно терял былые завоевания почти на всех направлениях. А русская земля, обложенная военными податями, скудела и хирела. В упадок приходили целые уезды. Злой и холодный ветер понес по русской земле семя общего недовольства, страха и непонимания, обещая коснуться каждого. Мужики уходили на окраины, бояре роптали, дворяне, уставшие от войны, жаждали передышки. Неограниченная власть Иоанна Васильевича не выдерживала испытания временем, а значит, становилась под угрозу. Сам же государь не желал этого признавать, ибо однажды свято и на всю жизнь уверовал, что власть ему дарована небом, а значит, он волен, как писал еще недавно в Литву, казнить и миловать по единому порыву души своей.
Поздней осенью на берегу Оки стоял худой человек и смотрел на север, в сторону Москвы. Длинные седые волосы его трепал ветер. Был он в черной монашеской рясе, подпоясанной бечевой, в лаптях, с узловатым посохом и сумой через плечо. Сразу видно – святой странник. Много таких на Руси! Две девушки, возвращавшиеся с лукошками в деревню, еще издали приметили путника, а когда поравнялись с монахом – пожалели: одна из них окликнула его:
– Странничек, корочкой хлеба не угостить? А то осталось у нас! Во имя Господа, отведай!
– Благодарствую! – ответил тот, обернулся, и страшным оказалось его изуродованное лицо – точно когда-то с него живьем содрали кожу. Раздавленное, поломанное. Человек смотрел на девушек одним только глазом – правым. А на левую половину лица его они и глядеть не отважились. Улыбался он криво, ну точно леший! Не злой, правда, и совсем еще молодой…
Та из девушек, которая предложила хлеб, вытащила его в тряпице, положила рядом с дорогой, на пожухлую траву, и обе, тотчас прибавив шаг, без оглядки заторопились в деревню.
Ковыляя, человек подошел к подарку, взял его изувеченной рукой, положил в суму и вновь, неловко шагая, вернулся на крутой берег. И вновь принялся смотреть на север, в сторону Москвы. А еще – вспоминать…
Вот, оторвав голову от соломенного тюфяка, чувствуя, как боль пронзает все тело, в полной темноте он спросил: «Где я? Что со мной?!» «Взяли мы вас к себе, барин, – услышал в ответ. – Видели мы, как вы барышню нашу защищали, не смогли вас на дороге оставить, выходили, иначе бы Господь не простил нам такого греха, и сами бы мы себе не простили. Так-то вот. Так-то…» А потом прошло еще время, и он стал кое-что различать одним глазом. Но боль оставалась и жгла его – и днем, и ночью, и наяву, и во сне. Он стал ковылять и все порывался найти медное блюдце или водицу в горшке, чтобы посмотреть на себя, но эти нехитрые зеркальца от него прятали. А далее пришло время поблагодарить хозяев и идти своей дорогой. «Мне ведь теперь в Москве быть нельзя, узнают – пытать будут и убьют», – сказал он. Сердобольные хозяева с горечью ответили: «Кто ж тебя таким узнает-то, барин? Смело шагай в новую жизнь – без оглядки. Теперь ты – другой человек. И лицом другой, и силушкой. Вместо меча теперь – посох тебе порукой. Главное, душу сохранил, а кому она принадлежит, главное, Богу ведомо, а другим знать и ненадобно».
Так он и шагнул в другую жизнь: поначалу боязливо, а затем, заглянув в свое сердце, пошел все увереннее, смелее…
И теперь с берега Оки, под свинцовыми облаками, он смотрел на холодную осеннюю воду и леса на том берегу, что тянулись и тянулись на север – в сторону Москвы. Никто и нигде не ждал его. Для царя он оказался изменником и врагом, для друзей и родных – умер. Да и не хотел грозу навести на них.
Но для мира и Бога он был жив. А это уже немало…
Он стоял в середине той земли, что уже жила в преддверии великой бедой. Держась за посох изломанной рукой, обнаженным сердцем своим он чувствовал ее приближение. Она звучала во всем – в грозном пасмурном небе и холодном ветре, в ранящих слух тревожных криках птиц.
Петр Бортников не ошибался: великую землю плотно заволакивал морок. И ни единого солнечного луча уже не смогло бы пробиться через эту тьму – не нашлось бы такого солнца.
Русь стояла пред грозными очами государя своего и не знала, как ей быть дальше.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:




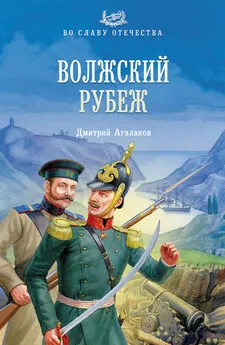
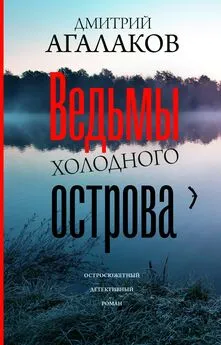

![Сергей Ежов - На краю Дикого Поля [СИ]](/books/1094659/sergej-ezhov-na-krayu-dikogo-polya-si.webp)


