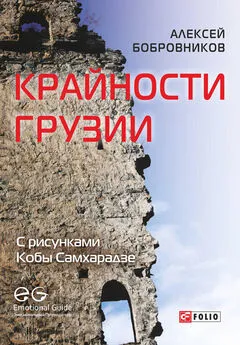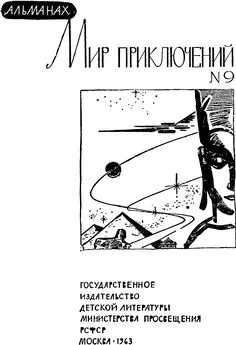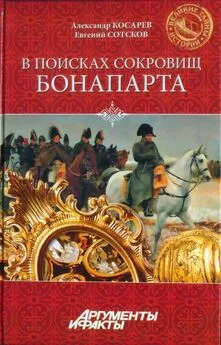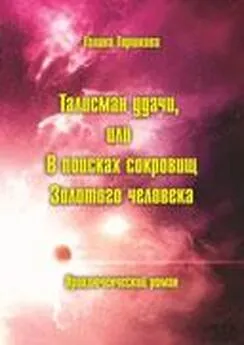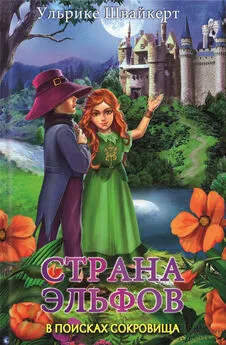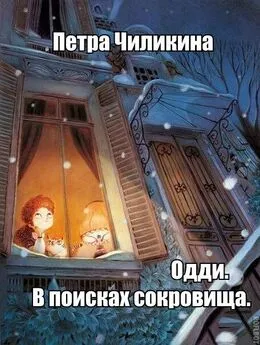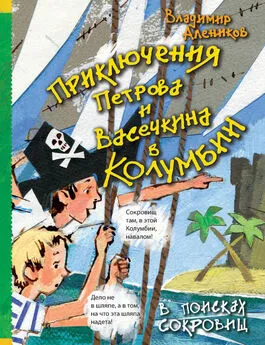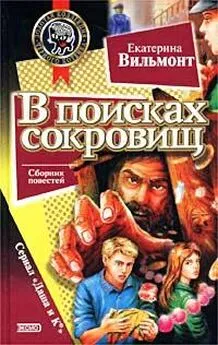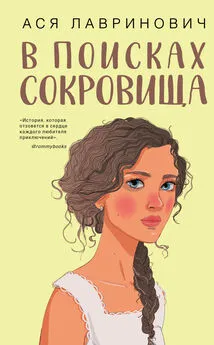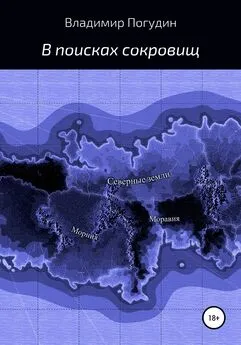Алексей Бобровников - Крайности Грузии. В поисках сокровищ Страны волков
- Название:Крайности Грузии. В поисках сокровищ Страны волков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Фолио
- Год:2016
- Город:Харьков
- ISBN:978-966-03-7648-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Бобровников - Крайности Грузии. В поисках сокровищ Страны волков краткое содержание
Ни одно событие в этой книге не придумано, ни одно имя не изменено.
Крайности Грузии. В поисках сокровищ Страны волков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Однако вернемся к легенде о быке.
По пути в селение я не преминул блеснуть эрудицией в разговоре с первым встречным: «Вы едете на Ломисоба? Праздник в честь быка Ломи?»
«Какой бык? – удивился вожак одной из компаний, двигавшихся в том же направлении. – Ломиси – так звали человека. Он был такой сильный, что мог руками разорвать огромную цепь. Ломиси спас полторы тысячи грузин. Пошел к хану и отбил их всех!»
«Нет, про цепь, это все не так, – вмешался его спутник. – Несколько лет назад одна беременная женщина поднялась на эту гору с огромной цепью. Цепь эта теперь лежит в церкви Ломиси!»
Впрочем, была и общая деталь: рассказчики из села Млета непременно добавляли в историю одну подробность: богатырь Ломиси, по их версии, носил фамилию Бурдули – самого влиятельного клана в округе.
Матриархат по-грузински
Солнце уже садится, и нужно найти место для палатки. Под ногами – жидкая кашица; такая себе грязевая слякоть, взбитая колесами сотен машин.
Прохожу между рядами сувениров и сладостей: по левую руку – исключительно продавцы христианско-скобяного товара; по правую – мороженого, орехов и земляники.
Приехав в Млета, я рассчитывал немедленно пообедать шашлыком, но мясом здесь никто не торговал.
Это не была ярмарка для туристов, где путешественник может купить все, что заблагорассудится, – мясо жертвенных животных не предназначено для продажи.
Нет сомнения, что, напросившись к столу любой из компаний, я мог немедленно получить сытный ужин, но мне не хотелось терять свою независимость, попав в руки грузинского тамады.
Подкрепившись двумя стаканами свежей земляники, отправился на поиски ночлега.
Вся огромная площадь с церковью посредине и несколькими прилегающими к ней улицами (если можно назвать улицами покрытые слоем черного месива участки дороги) уставлена машинами, фургонами и большими навесами, под которыми могла спрятаться компания из 20—30-ти человек.
Ставить палатку в этом хаосе не представлялось возможным, и я подумал, что за небольшие деньги смогу снять комнату у кого-то из местных жителей (село Млета насчитывает 30–40 домов).
Хозяин одного из них предложил разместиться у него во дворе. В сухую пору я, пожалуй, принял бы это предложение, но только не сейчас.
Двор выглядел значительно чище дороги, но обилие домашней птицы, опорожнявшейся там, где заблагорассудится, заставляло запастись терпением и искать лучших условий. Я нашел их в следующем же доме.
Хозяева несколько минут посовещались за закрытыми дверями и отвели гостю одну из лучших комнат с кроватью, хотя я и настаивал на том, что единственное, в чем нуждаюсь – это крыша и сухой пол.

Улица Руставели (как, до недавних времен, и улица Ленина) есть в каждом грузинском городке. Эта – в поселке Пасанаури, считающегося грузинской столицей хинкали
Дом был старый, построенный на горе и как бы врытый в нее; одноэтажный, если не принимать в расчет чердак, куда я и перебрался вопреки протестам хозяев.
Главным помещением жилища была кухня, оснащенная старинной металлической печкой, которая топилась дровами. Пустые оконные проемы завешены коврами, поэтому в любое время суток здесь царит полумрак.
Дом полон детей: смешливой, голосистой, слезливой оравой 2– 4-летних мальчишек и девчонок.
Пожилая женщина трудилась у печки, а несколько молодых сидели за столом и, не отягощенные домашними хлопотами, о чем-то весело болтали.
В царстве матриархата, где я очутился, было только двое мужчин. Они старались не появляться на кухне одновременно с женским составом.
Главой семьи явно была старуха. Впрочем, называть ее старухой неверно. Ничего дряхлого не было в этой седой, крупной, живой и улыбчивой женщине лет 60–75 (в Грузии угадать возраст мужчин или женщин так же сложно, как иногда в Таиланде отгадать их пол). Прародительница клана по очереди представила всех присутствующих.
Большинство из них она, то ли по причине избытка материнской любви, то ли из-за скудного запаса русских слов, называла своими детьми. Однако после некоторых уточнений («это тоже мой сын, он муж моей дочки») стало понятно, кто есть кто.
«Вы – Бурдули?» – спросил я мужчину, пригласившего меня в дом и оказавшегося «мужем дочки».
«Нет. Я – Надирадзе», – ответил он.
«Мы – Бурдули!» – провозгласила его жена.
Во всех сферах жизни села Млета фамилия Бурдули считается главенствующей.
«А они? – поинтересовался я, указывая на младшее поколение, резвившееся под ногами. – Они ведь – Надирадзе?»
Вопрос был провокационный, но я только потом понял, насколько.
«Ара! Ара! – воскликнула жена. – Нет-нет! Они – Бурдули!»
Муж поспешил перевести разговор на другую тему, и я не стал больше касаться дилеммы, судя по всему, давно разрешенной не в пользу мужской половины.
Возможно, в каких-то других краях человек, берущий себе в жены женщину из клана Бурдули, и считается представителем древнего и по всем параметрам архидостойного рода, однако здесь, в поселке Млета, нет фамилии весомее.
Будь он представителем царского рода Багратиони, возможно, жена не была бы столь категорична в желании передать девичью фамилию своим детям. Возможно, но не очевидно.
Aut Burduli aut nihil – быть Бурдули или никем, так в данном случае можно перефразировать древнюю латинскую пословицу.
Семья напоминала матриархальные общества, существовавшие в XIII веке на острове Суматра. Важнейшей социальной единицей там считалась семья «сапаруи», что означает «плоды одного чрева». Ядро составляли родственники по женской линии, происходившие от одной прабабки. Пришлая часть – это мужья, принимавшие определенное участие в жизни «сапаруи», но не имевшие прав на нажитое добро. При разводе в такой семье все имущество, а также дети оставались в клане жены, а мужчина возвращался в дом матери.
Фактически абсолютным правом собственности на землю и имущество обладали только женщины.
Нечто подобное я увидел и в Млета: местные жители, принадлежащие к другим фамилиям, не только принимают это неравенство как должное, но и часто культивируют легенду о могуществе рода Бурдули паче самих бурдульцев.
Вот что рассказал Нико Надирадзе, женившийся на представительнице славного мтеульского клана.
«Ты слышал легенду о 300 арагвийцах?» – спросил он.
«Нет, ничего о них не знаю», – ответил я, заподозрив, что сюжет, который сейчас услышу, мне давно знаком.
И действительно, Нико почти слово в слово передал грузинский пересказ истории о трехстах спартанцах, с той лишь разницей, что дело происходило в горах Кавказа на реке Арагви, протекающей неподалеку [9].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: