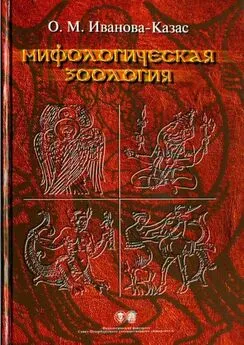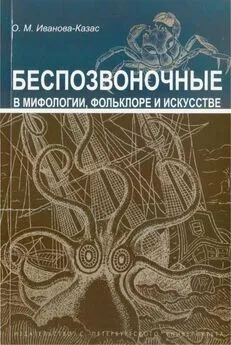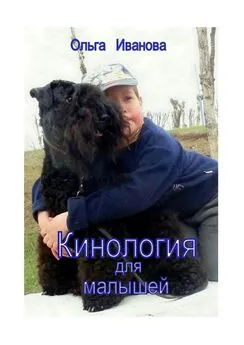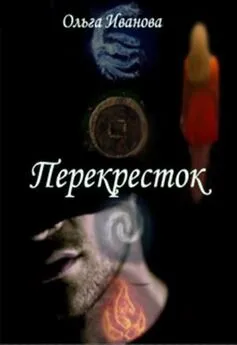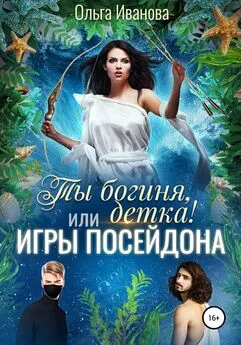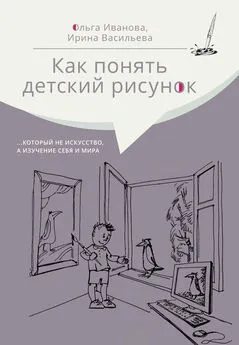Ольга Иванова-Казас - Мифологическая зоология
- Название:Мифологическая зоология
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Филологический факультет СПбГУ
- Год:2004
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-8465-0212-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ольга Иванова-Казас - Мифологическая зоология краткое содержание
Книга представляет интерес для биологов, историков, филологов и широкого круга читателей.
Мифологическая зоология - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Это относится и к более мелким житейским ситуациям. У всех народов есть сказки, в которых фигурируют злая мачеха, добрая фея и Золушка, вознагражденная за ее добродетели, и т. д. В. Мясников (2001) назвал такой ультрасовременный литературный жанр, как детективы, «бульварным эпосом» и показал, что по содержанию он мало отличается от древних былин и сказок, сюжеты которых сохранили свою актуальность и вполне могут быть пересказаны современным языком: «Вот медведь рэкетирует крестьянина-ферме- ра, требует отстегнуть пятьдесят процентов урожая, иначе тому непоздоровится. Но мужик обводит вокруг пальца быковатого вымогателя, оставляя ботву ему, а репу себе... А вот хитрая лиса из ледяной избушки покушается на чужую жилплощадь, забалтывая зайца. Тот, косой, прописывает ее к себе, а когда трезвеет, оказывается уже на положении бомжа. В какие только структуры бедолага не обращается, ни прокурор-медведь, ни „крутой" бык не смогли отбить его лубяную избушку. Всех запугала лиса. Но потом появился петух с косой на плече и попер буром. Лису выгнал, а сам остался с зайчиком, вроде как крышу обеспечивать» (с. 154).
Живучесть этих сюжетов и типов действующих в них лиц объясняется тем, что они бесконечно повторяются в самой жизни, а мифология только вносит в них элемент фантастики, объясняя все необычное и непонятное вмешательством сверхъестественных сил. Могущественные мифические злодеи (и чудовища) отличаются от современных только тем, что пользуются зубами, когтями, огненным дыханием, убивающим взглядом и колдовством, а не техническими средствами и хитроумными законами. То же можно сказать о добрых феях, которые, однако, в реальной жизни встречаются не так часто. Разница только в форме, а не в содержании. Кроме того, нередко происходит мифологизация реальных исторических событий. Если не считать самого начала, повествующего о сотворении мира, библейский Ветхий завет есть мифологизированная древняя история еврейского народа. Вполне правдоподобной представляется идея Б. А. Рыбакова (1987), о том что победа былинного богатыря Добры- ни Никитича над Змеем Горынычем и освобождение томившихся в плену у Змея князей, бояр и витязей символизируют успешное отражение нашествия враждебного племени степных кочевников.
Существование подсознания, в котором формируются некоторые общие представления и зарождаются побудительные причины для многих поступков, в настоящее время, по-видимому, можно считать общепризнанным, вопрос лишь в том, как это отражается в мифологии. Попробуем проанализировать с этой точки зрения образ саранчи, описанный в Откровении Иоанна Богослова. Саранча олицетворяет грядущую Кару небесную и должна жалить и терзать грешников в течение пяти месяцев. Она имеет голову женщины в золотой короне и с зубами льва, тело лошади, жало скорпиона и крылья насекомого, которые создают шум, подобный стуку боевых колесниц. Возникает вопрос, какой архетип мог бы лежать в основе этого видения? Очевидно, смутная идея, что нарушение каких-то запретов влечет за собой суровую кару. Но значит ли это, что идея возмездия пришла из далекого прошлого? Реальная история человечества полна примерами жестокой мести. Каждый четырехлетний ребенок из своего небольшого житейского опыта уже знает, что непослушание наказуемо. Концепция Юнга не делает наше понимание образа саранчи более глубоким и не прибавляет ничего к тому, что было сказано выше, она просто не нужна.
Вообще юнговскую теорию архетипов едва ли можно распространять на мифозоев, так как Юнг имел в виду лишь расплывчатые и туманные образы добрых и злых духов, врагов и покровителей человека, а не анатомически конкретизированных ангелов, бесов, драконов, змея-искусителя, Сфинкса (Сфинги, задающей загадки) и т. д. Существование юнговского архетипа можно приписать разве что драконам.
Превращение утопленников в человеко-рыб, содержащееся в библейской легенде, в мифологии эскимосов, в русском и китайском фольклоре, является, по-видимому, пережитком (термин Э. Б. Тайлора, 1989) древних представлений о близости людей и животных и о существовании оборотничества, но для сохранения подобных пережитков подсознание не требуется. Существует множество предрассудков, которые передаются из поколения в поколение от родителей к детям. Поэтому самым уязвимым местом концепции Юнга является идея наследственной природы архетипов, если же от нее отказаться, эта концепция утратит свою оригинальность.
Тем не менее термин «архетип» стоит сохранить, вкладывая в него иное содержание, т. е. предполагая, что это более древний, первичный вариант мифологемы, с которого началась ее эволюция. Примером такой эволюции может служить история оленя, который по первоначальной версии омолаживался, совокупляясь со змеей, потом он начал достигать той же цели, убивая змею, а еще позднее это убийство стало рассматриваться как символ победы Христа над дьяволом (Юрченко, 2001). Эволюционно-мифологическое понимание термина «архетип» хорошо согласуется с разделяемым многими специалистами мнением, что мифология всех индоевропейских народов происходит из одного корня. А в отношении мифозоев, пожалуй, лучше использовать термин «прототип». Так, прототипом европейского дракона послужила змея, а китайского — ящерица, архепрототипом Сциллы — шестиглавый Гомеровский пес, можно предположить также, что прототипом рыбохвостой русалки послужила ожившая утопленница, еще имеющая обе ноги, и т. д. Но не исключено, что некоторые мифозои (например, саранча) не имеют более простого прототипа и возникли сразу в сложной форме.
Из сказанного видно, что Юнга интересуют не морфологические, а психологические характеристики мифологических персонажей и возникающие между ними коллизии. А с зоологической точки зрения гораздо более интересны представления этолога В. Р. Дольника (2003) о влиянии генетической памяти, т. е. инстинктов, унаследованных человеком от его животных предков и хранящихся в подсознании, на его поведенческие реакции, мимоходом этот автор коснулся и проблемы химерообразования.
Страх перед дикими зверями, связанный с инстинктом самосохранения, может побудить воображение к созданию фантастических чудовищ. «Все животные наделены инстинктом самосохранения, страхом смерти — программами, обеспечивающими узнавание главных, стандартных опасностей...» (Дольник, 2003, с. 86). Самым страшным хищником для наземных приматов были леопард и другие крупные кошки, а для более отдаленных наших предков — небольших древесных обезьян — особенно опасны были хищные птицы и змеи. «Наша неосознанная иррациональная боязнь змей, ночных и дневных хищных птиц — наше генетическое наследство» (там же, с. 96). Врожденный страх перед этими животными привел, по мнению Дольника, к их обожествлению и поискам у них же защиты. А следующий абзац имеет прямое отношение к теме настоящей книги:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: