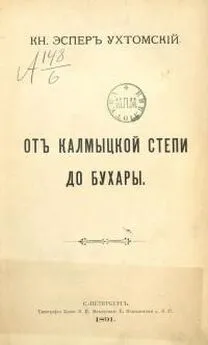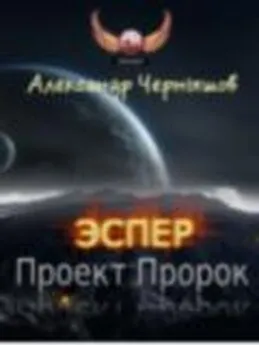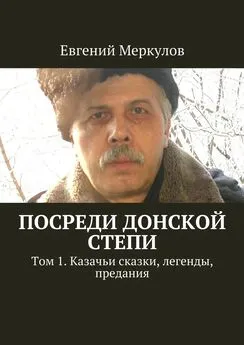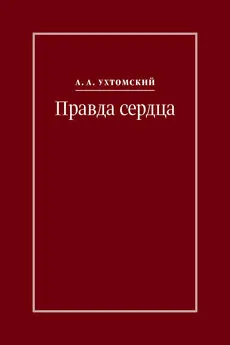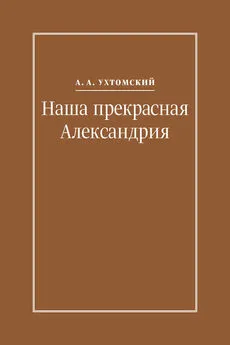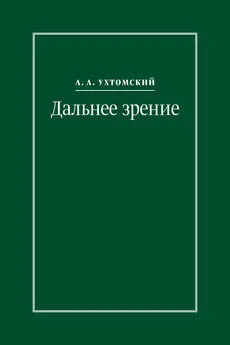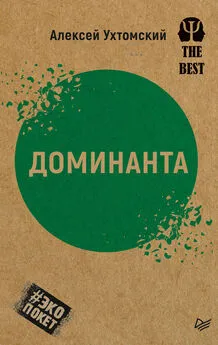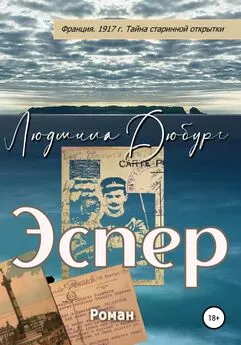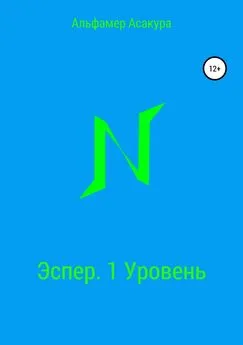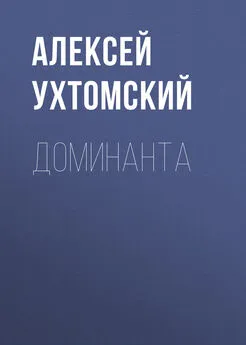Эспер Ухтомский - От Калмыцкой степи до Бухары
- Название:От Калмыцкой степи до Бухары
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Типография князя В. П. Мещерского
- Год:1891
- Город:Санкт-Петербургъ
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эспер Ухтомский - От Калмыцкой степи до Бухары краткое содержание
Туркмения была последним регионом Средней Азии, покорившимся Российской империи, тем важнее было для России закрепить свое культурно-экономическое влияние в этих далеких землях. Попутно путешественник рассказывает об Астрахани, развитии ее экономики, разведении тутового шелкопряда, культуре и быте калмыков, исповедующих буддизм, об их культурных связях с Тибетом и Забайкальем. Очерки Э.Э.Ухтомского были направлены на то, чтобы привлечь внимание ученых, правительства, предпринимателей к изучению и развитию восточных окраин Российской империи.
От Калмыцкой степи до Бухары - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В это время тут появился свирепый Абу-Муслим, олицетворение всего, что враждебно Ирану. Имя его не даром до сих пор мило /138/ туркменам, узбекам. Он сзывал их под свое черное знамя. Барабаны, по его приказание делались из собачьих кож. Зловещие звуки раздавались, благодаря этому, в его лагере. Как раз тогда решался кровавый спор между династией Омейадов и Аббасидов. Последние одолевали, и тем самым уничтожалась нарождавшаяся в исламе духовная жизнь высшего порядка. Свободные мыслители, вполне искрение мистики, должны были потерпеть гонение. Туран (в худшем смысле слова) торжествовал. Реакция на окраине становилась необходимостью,- и вот, в отпор аббасидскому усиливающемуся влиянию в Мерве, заговорил и воспламенил слушающих некий туземец Гашим, бывший сначала приближенным Абу-Муслима, много видевший в Западной Азии, долго вникавший в магию. Новый учитель объявил себя пророком, а зачем уже прямо божеством, неоднократно ранее воплощавшимся в образе Адама, Ноя, Авраама, Моисея, и т. д. Народ счел его существом таинственным, лучезарным. Подобно зятю основателя ислама - Али, Гашим скрыл свое лицо под зеленым покрывалом, за что и получил название Моканна («занавешенный»). Он это мотивировал тем, будто от него исходит слишком ослепительный свет, могу- /139/ щий убивать людей. Глубокая ненависть против мусульман, питавшаяся коренным населением (особенно земледельческими классами), живо проснулась. Толпы фанатиков сплотились вокруг Мованны, что доказывает, каково было настроение мервцев, в каком угнетенном и бедственном состоянии находились простолюдины, которые, во имя вечной религиозной борьбы с Ариманом, неутомимо заботились об орошении и культуре, не встречая от властей ни защиты, ни поощрения.
Многие ли у нас подозревают, что в английской литературе есть поэтическое произведение, посвященное этому моменту в истории Мерва? Оно принадлежит перу из известного писателя (начала нынешнего столетия Томасу Муру и озаглавлено: «The veiled prophet of Khorassan», составляя част прелестного цикла Лалла Рукх. Насколько оно соответствует восточным вкусам, видно из того, что поэму вскоре после издания перевели на персидский язык и она понравилась современным иранцам.
В стихах Мура, конечно, попадаются неточности, объясняемые плохим знакомством его эпохи со всем, касающимся Средней Азии, но само избрание темы служит признаком того, как чутко и любовно англичане издавна отно- /140/ cились к завоевываемому ими Востоку - даже к таким отдаленным местностям, как, например, те, что прорезывает мервская река Мургаб.
Мур описывает их подобными раю.
And, fairest of all streams, the Murga roves
Among Merou’s bright palaces and groves
Чертог Моканны сказочно изображен. Краски необыкновенно ярки.
Когда-то наши поэты возьмутся за аналогичные, богатые содержанием темы! Ведь мы же вдохнули трепет и блеск поэзии в кавказскую жизнь, ведь мы же этим приблизили ее к себе, сроднились, так сказать, с нею! Неужели с среднеазиатскими разнообразными владениями не повторится то же самое? Неужели мы окончательно оскудели талантами или потеряли интерес ко всему отдаленному, неизведанному, чарующему? Бог даст, будущее докажет иное.
Довольно смутные предание о лжепророке представляют любопытный материал для воссоздания того времени (конца VIII века). Разве не приковывает внимание хотя бы сцена вроде следующей: приверженцы умоляют Моканну, побежденного и опоясанного вражескими войсками, явить своим защитникам свой пресвет- /141/ лый лик. ‹Вы не вынесете сияния» . - «Все равно: пусть придет смерть, лишь бы нам узреть тебя»!
К вечеру они сзываются. Толпы вооруженных людей «в белом» ждут, затаив дыхание у входа в укрепленный дворец лжепророка. Он же расставляет за стенами своих многочисленных жен с зеркалами в руках. Заходящее солнце отражается на них. Блеск становится невыносимо ярким. «Откройте ворота, покажите меня моему народу!» слышится приказание. И пораженные видением, в полнейшем благоговении, ряды воинов падают ниц: «Довольно! Пощади! Скройся! Мы верим!»
-------
/142/
XVI
В БАЙРАМ-АЛИ.
Когда я в последний раз был в старом Мерве, наступала настоящая зима: ночью злилась вьюга, снежные сугробы наметались здесь и там. Безжизненное пространство вокруг казалось еще мертвее. Обозревать при этом пустынные развалины положительно становилось невыносимым, - до того они наводили уныние.
Целью моей поездки, между прочим, являлась так называемая гробница Санджара или, как вернее произносить, Синджара. Она одиноко высится в некотором отдалении от других остатков древности и недавних веков. Местность неровная, иногда холмистая... Приближаешься к величественному сооружению и сперва даже не отдаешь себе отчета в его истинных размерах. Оно стоит на пригорке и представляется меньше, чем есть в дей- /143/ ствительности (до девятнадцати саженей от основания до крыши, на поверхности в сорок или пятьдесят квадратных саженей). Глядя на отчасти уцелевшие своды, купол, колонны, богатые изразцы, - дивишься и не веришь, что все существует со времен второго крестового похода, т. е. более семисот лет. Если подъехать ко входу, внизу заметно некоторое углубление и над чьей-то могилой воткнут бунчук, висят тряпочки, положены маральи рога, т. е. вообще видны эмблемы мусульманской туземной святыни. Туркмены ее чтут, думают, что она есть прах некогда славного султана, но вряд ли это так. Синджар был погребен, вероятно, гораздо сокровеннее и богаче, а в таком случае - весьма правдоподобно - гробницу его давно отыскали войска, не раз затем громившие Мерв, давно ее разграбили, обратили в ничто. Здесь же лежит, должно быть, тело какого-нибудь благочестивого магометанина позднейшей эпохи. Имя его забыто, биография - тем паче. Средневековой необвалившийся еще мавзолей заставляет отождествить неизвестного повойника с знаменитым, слить их воедино, оказывать поклонение третьему таинственному и фиктивному лицу. В сущности не все ли равно? Оставалась бы память о месте, не теряло бы /144/ смысла название, не воцарялось бы полное, беспощадное забвение!
Окрестности, по мнению туземцев, имеют отношение и Синджару. Невдалеке навалены кучи кирпичей. Это, как мервцы * [U18] ) объясняли английскому путешественнику О’Доновану‚ - могилы врагов султана. Суеверные степняки чураются их, бросают каменья по направленно к этим грудам.
Значительно южнее вдоль р. Мургаба находится один пункт (Тал-Лханан-Баба), где надпись свидетельствует о погребении здесь Синджаровых детей.
Что же за обаяние, присуще этому правителю? Почему он пережил в устах народа-пришельца (текинцев) многих других исторических деятелей с не менее громким прошлым? Неужели все зависит исключительно от прихотей судьбы?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: