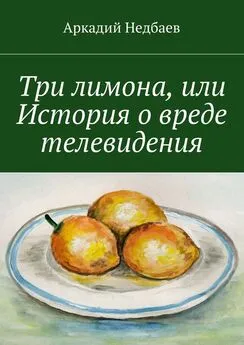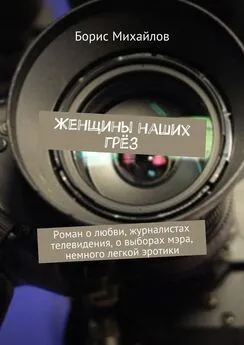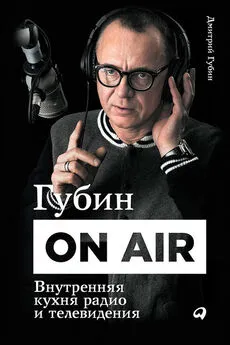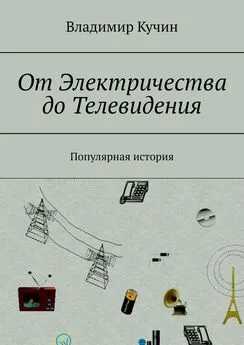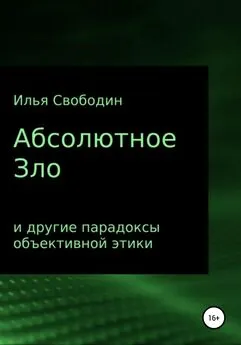Свободин А.П. - Откровения телевидения
- Название:Откровения телевидения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Свободин А.П. - Откровения телевидения краткое содержание
Откровения телевидения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
.
У Карамзиных постоянно бывают Петр Андреевич Вяземский (брат Екате
рины Андреевны), Василий Андреевич Жуковский, Александр Иванович
Тургенев —
для каждого из них у Андроникова
свой
голос
.
Чуть ли не
ежедневно заходит сановник и композитор Михаил Юрьевич Виельгор
ский
.
В произношении фамилии композитора рассказчик подчеркивает
первую, певучую часть, и для его образа этого оказывается достаточно
.
Мы ждем Пушкина
.
Он есть или его еще нет? Не пропустили ли мы в нашем
напряженном внимании той секунды, когда он вошел? Как странно —
можно приблизиться к Софье и Александру Карамзиным, к Дантесу, к
случайным, едва мелькнувшим фигурам, чуть ли не потрогать их, а к
Пушкину нельзя Мы видим его, чувствуем, но он все время на
рас
стоянии
.
Мы поняли его приближение по тому, как изменилось вдруг наше отношение к людям, населявшим этот мир
.
Их повседневность обернулась
своей неприглядностью
.
Не было Пушкина — все было изящно, мило,
умно
.
Показался Пушкин — и то же самое стало плоско, убого, бездушно
.
А его еще нет, он там, за кадром, и чем ближе к нему, тем нам труднее,
точно мы приближаемся к огню
.
Один лишь раз в рассказе мы подошли к
нему вплотную, но это случилось много позже
.
Приблизиться нельзя — образ поэта создается не приемом, а болью
рассказчика, который не
смеет
подойти
к
Пушкину,
страдает
за него и заражает страданием нас
.
Они все живут — поэт мучается
.
От всего — малого, пустякового, боль
шого, сложного
.
Оттого, что надо ехать на один раут и нельзя не быть на
другом, оттого, что, придя усталым домой, во втором часу ночи застает у
себя веселящихся друзей и к ним надо непременно выйти, а он все-таки не
выходит, запирается у себя, и раздражен, раздражен до крайности
.
Оттого,
что надо брать деньги у ростовщиков под залог столового серебра, и оттого, что цензура запретила статью о Радищеве
.
И все словно сговори
лись: ни в чем не видят ничего особенного, не видят того, что видит он, —
искажения естественных человеческих отношений. Ах, Дантес без ума от
Натали, он ухаживает за женой поэта — что ж тут такого; это так комично. Владимир Федорович Одоевский, друг и соратник по «Современнику»,
затевает издание журнала в пику «Современнику» и намеревается перетя
нуть к себе его авторов. Отчего бы и нет? И Александр Карамзин, честный и умный Александр Карамзин, друг сердечный, собирается печататься в этом журнале и приглашает туда брата, хотя верно знает, так же как знает это и Одоевский, что новое предприятие подорвет положение «Современника», и без того трудное. Знают и все-таки делают. Успокаивают себя,
должно быть, тем, что не важно, где ты печатаешься, важно — что ты
пишешь (милая сентенция, нередко облегчающая предательство). Здесь
норма — компромисс разного толка, общественный и интимный. А он —
ненавистник компромисса, и каждый шаг по правилам «святого благоразу
мия» сжигает его.
«...Мы могли открыть настоящий бал, и всем было очень весело, судя по
их лицам, кроме только Александра Пушкина, который все время был
грустен, задумчив и озабочен. Он
своей
тоской
и на
меня тоску
наводит.
Его блуждающий, дикий, рассеянный взгляд поми
нутно устремлялся с вызывающим тревогу вниманием на жену и Дантеса, который продолжал те же шутки, что и раньше, — не отходя ни на шаг от Екатерины Гончаровой, он издали бросал страстные взгляды на Натали, а под конец все-таки танцевал с ней мазурку. Жалко было смотреть на лицо
Пушкина, который стоял в дверях напротив, молчаливый, бледный, угрожа
ющий, боже мой, до чего все это глупо!»
Так писала о своих именинах 17 сентября 1836 года Софи Карамзина.
Вот как прочитал это Андроников. Первые несколько слов — голосом
Софи (а мы помним, что в ее голосе заключены и отношения к ней рас
сказчика и ее характеристика), затем там, где это касается облика Пушкина, — голосом самого Андроникова, в котором нарастающая боль,
отчаяние, затем, где говорится о Дантесе, «продолжающем те же шутки», — вновь Софи, все видящая, за всем наблюдающая, потом фразу «Жалко было смотреть на лицо Пушкина...» — опять голосом рассказчика, потому что нельзя доверить эту фразу Софи, ибо что значит ее «жалко смотреть» по сравнению с нашим, сегодняшним «жалко Пушкина», и, нако
нец, последнюю фразу — опять за Софью Николаевну, которой не по себе
от серьезности поэта, потому что все танцуют, всем весело, и она искренне не понимает, откуда такие мрачные переживания и что такого уж
особенного происходит. Все это в ритме бала и с картинной наглядностью
в расположении действующих лиц. (Андроников группирует рассказ вокруг таких мест переписки, которые, если отвлечься от того, что это доку
мент, — истинные драматические сценарии, где есть все вплоть до точ
ного построения сцены и указания планов.)
Они в разных измерениях — Пушкин и все остальные. С ним в рассказ
вошла безысходность. Повествование строится теперь концентрическими
кольцами, каждое следующее — уже предыдущего. Драма Пушкина —
драма знания среди моря незнания или, что еще хуже, — полузнания.
Пушкин Андроникова уже не принадлежит своему времени. Житейски это обнаруживается в равнодушии к нему части «публики». Его считают — и это мнение разделяют многие его друзья — «светилом, в полдень угас
шим». Софи Карамзина повторяет слова Булгарина, как всеобщую мысль. Поведение поэта многим представляется мрачным чудачеством, а между тем это Пушкин времени «Памятника» и гениальных прозрений историка и философа.
«...И снова начались гримасы ненависти и поэтического гнева; мрачный, как ночь, нахмуренный, как Юпитер во гневе, Пушкин прерывал свое
угрюмое и
стеснительное
для всех молчание только редкими, отрывистыми, ироническими восклицаниями и, время от времени, демоническим хохотом. Ах, смею тебя уверить, он был просто смешон!..»
И опять звучат и голосок Софи — ее ирония, и досада Андроникова по отношению к этой умной и талантливой женщине, ироничность которой скрывает бессердечность, и опять видится Пушкин, загнанный в угол, не владеющий собой, мучающийся, и общество, которое стеснено его состо
янием.
Так проходит следующая картина. Рассказчик теперь похож на человека,
присутствующего при агонии близкого. Сделать ничего нельзя. Надо иметь мужество выстоять до конца, не отвести глаз.
Живого места нет в душе поэта. Как же они не видят всего этого, — вопрошает Андроников, — даже самые умные и проницательные, любящие его,
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: