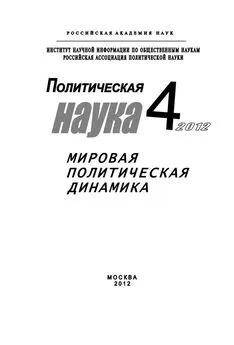Сергей Патрушев - Политическая наука №3/2011 г. Современная политическая социология
- Название:Политическая наука №3/2011 г. Современная политическая социология
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:научных изданий Агентство
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:2011-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Патрушев - Политическая наука №3/2011 г. Современная политическая социология краткое содержание
Предназначено для исследователей-политологов и социологов, преподавателей и студентов вузов.
Политическая наука №3/2011 г. Современная политическая социология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
По мнению Качанова, «легитимные практические схемы не дают агенту воспринимать и мыслить, понимать и выражать то, чего он не может воспринимать и мыслить, понимать и выражать. Они лишают агента способности рефлективно и по-настоящему критично относиться к государству». Можно ли утверждать, что легитимная практическая схема тождественна фрейму? Думается, что можно – по вышеизложенным соображениям. Если так, то ломкой фрейма, рефреймингом, завершается рефлексия,в процессе которой восприятие и мышление высвобождаются из-под цензуры присвоенных индивидами практических схем как способов действия 17 17 Интересные наблюдения о процессе рефрейминга сделаны К. Клеман [см.: Клеман, Мирясова, Демидов, 2010, c. 340–341, 367–371].
. Качанов не отрицает, что хотя эти схемы «выступают в роли горизонта , в котором действуют созерцание и рассудок » агентов, они относительно легитимны (в зависимости от социальной позиции агентов) и, видимо, лишь до тех пор, пока «узнаваемы и признаваемы» агентами [см.: Качанов]. Тогда уместно задаться вопросом: в чем могут быть выражены признаки ломки фрейма?
Рефлексия предполагает обнаружение зазора «между нашими явными целями и теми целями, которые неявно присутствуют в наших действиях и суждениях», и тогда мы «испытываем потребность изменить либо то, либо другое (а также, не исключено, и то и другое вместе)» [Лаудан, 1994, c. 223]. Вероятно, рефлексии до́лжно подвергать прежде всего именно правила, что труднее всего, если сильна приверженность к личному опыту. В акте рефлексии предпринимается попытка выстроить и декларируемые , и явные цели в одну линию, чтобы устранить непоследовательность в поведении.
Понимание людьми несоответствия их реальных действий тому, что им следует делать, можно интерпретировать как расс о гласование (disharmony) между должным и сущим именно потому, что его легко игнорировать, если людям кажется, что оно их не касается [см.: Spinosa, Flores, Dreyfus,1995, p. 58–59]. Они смирились с подобным несоответствием (вариант двоемыслия), приняв его как само собой разумеющееся, как не противоречащее здравому смыслу (the common-sense understanding of what happens). Осмысление сущего может привести к инновациям – реконфигурации, артикуляции, заимствованию. Инновациям предшествует проверка обычных, кажущихся понятными (имплицитно) социальных навыков (the way we do things is the natural way of doing things ) [cм.: ibid., p. 20] на их соответствие определенному порядку значимости ценностей. В процессе такой проверки интуитивное знание таких навыков, т.е. всеми усвоенных способов действия, может быть эксплицировано и определено как парадоксальное или непоследовательное (anomaly) [ibid.]. Проверка реальности на соответствие определенному порядку значимых ценностей происходит в процессе определения ситуаций , которое дано респондентами в отношении их прав и свобод. Порядок значимости этих прав и свобод может быть обоснован (оправдан) представлением о справедливости.
Однако следует подчеркнуть, что обнаруживаемые респондентами парадоксы зачастую чреваты понижением уровня доверия между акторами, которое обычно питается относительной уверенностью каждого в предсказуемости поведения другого. По справедливому мнению Л.Д. Гудкова, «предсказуемость институционального поведения в общем и целом гораздо выше, чем группового и, тем более, индивидуального, но только в том случае, если структуры формального и неформального взаимодействия не расходятся и не оказываются в конкурентных отношениях друг с другом» [Гудков, 2009]. В российской же институциональной среде эти структуры как раз расходятся и конкурируют. Устранить оба явления собственно и призваны стратегии гражданского действия . Ключевым элементом таких стратегий предположительно должна стать солидаризация гражданских действий.
Очевидно, солидарность не сводима к свойственной человеческой природе способности сочувствия, но и предполагает способность к рефлексии – осознанию стимулов и интересов другого [см.: Мусхелишвили, Сергеев, Шрейдер, 1996, c. 14]. Предсказуемость поведения других основана на общности разделяемых ценностей и норм . С кем и на каких основаниях респонденты готовы объединяться? Как они понимают, что такое солидарность вообще и в нашей стране в частности? Ответы на эти вопросы будут различаться в зависимости от степени рационализации стратегий, что предполагает возникновение или расширение доверия, основанного на учете интересов другого, выявленных из опыта взаимодействий с ним. Однако этот опыт должен быть абстрагирован, деперсонализирован – не предполагать исключительную опору на личное знание партнеров, поскольку источником генерализации доверия служит рационализация взаимодействий 18 18 О генерализации доверия и его роли в становлении современного общества см. [Гудков, 2009, c. 18].
.
Гипотеза о рассогласовании между средовой потребностью граждан и институциональной структурой, формально предназначенной для ее удовлетворения, находит подтверждение в ответах респондентов на два вопроса. Первый из них был задан с целью выяснить, насколько им важны те конституционные права и свободы, реализация которых предоставляет возможность удовлетворить их средовую потребность. Оценку важности этих прав и свобод предлагалось дать по пятибалльной шкале. Их оценка приближается к максимуму по трем позициям – право на жизнь, право на жилище , а также « свобода и личная неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни ».
Во втором вопросе респондентам предлагалось припомнить случаи, когда они лично сталкивались с нарушением упомянутых прав и свобод. Хотя чуть более половины ответивших на этот вопрос (53 %) не смогли припомнить случаев нарушения каких-либо конституционных прав и свобод, есть основания утверждать, что институциональная среда не гарантирует многим респондентам возможность удовлетворения их средовой потребности. В частности, почти четверти (24 %) такой возможности могли воспрепятствовать ущемления их « свободы и неприкосновенности личности, частной жизни ». От 12 до 15 % ответивших на данный вопрос столкнулись со случаями, когда они не смогли либо « передвигаться , выбирать место пребывания и жительства », либо « защищать свои права и свободы способами, не запрещенными законом », а также им не был возмещен « государством вред, причиненный действиями органов власти ».
Поскольку выбор стратегий гражданского действия (индивидуального или коллективного) определяется стилем мышления предпринявших его акторов, представляется целесообразным хотя бы вкратце представить кое-какие из выявленных по опросу характеристик когнитивной и коммуникативной компетенций респондентов. Об их когнитивной компетенции дает некоторое представление то, как они определяют ситуацию с наличествующими у них степенью свободы и широтой прав. Если судить по пропорции респондентов, ответивших на оба вопроса, то они склонны считать, что либо у них примерно столько свободы и прав, сколько было и прежде, либо их стало даже меньше. Но в таком случае можно предположить, что предпринимаемый респондентами выбор возможных и вероятных стратегий защиты их нереализованных или попранных конституционных прав и свобод, вероятнее всего, ограничен опытом, воплощенным в «легитимной практической схеме» или фрейме.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: