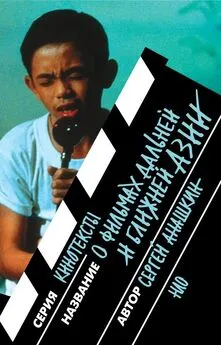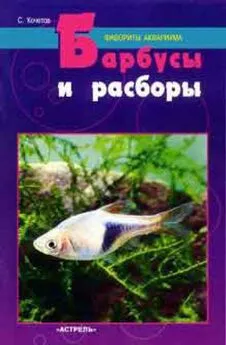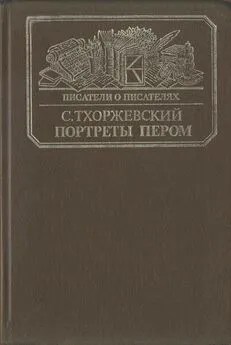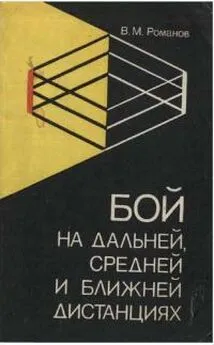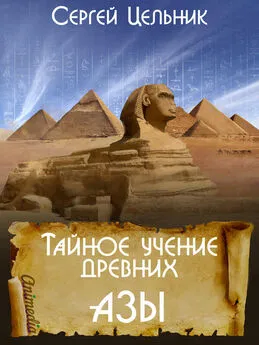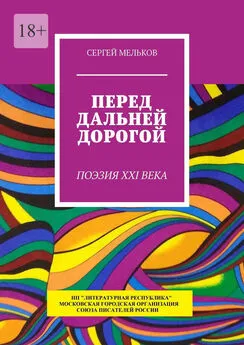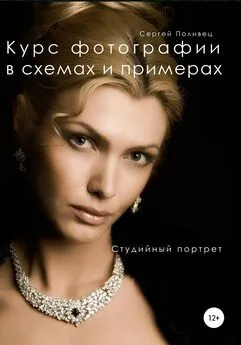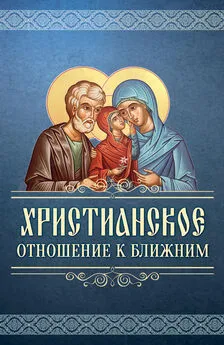Сергей Анашкин - О фильмах дальней и ближней Азии. Разборы, портреты, интервью
- Название:О фильмах дальней и ближней Азии. Разборы, портреты, интервью
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0410-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Анашкин - О фильмах дальней и ближней Азии. Разборы, портреты, интервью краткое содержание
О фильмах дальней и ближней Азии. Разборы, портреты, интервью - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Не по всем этим землям проходил Великий шелковый путь, но было немало торных путей и разветвленных тропинок, соединявших между собой разные уголки азиатского континента. Все местные цивилизации – по мере возможностей – поддерживали контакты с ближними и дальними соседями по континенту, культивировали взаимный обмен. В пространстве перемещались не только конкретные артефакты – художественные идеи, изобразительные мотивы, фабулы, технологические навыки и бытовые установки. Так, на территории Кыргызстана находят старосирийские надписи и христианские символы, в Якутии – китайские монеты и вещицы степного стиля.
В большинстве азиатских стран кино стало не просто массовым зрелищем, а продолжением или же «заместителем» повествовательного фольклора. Отсюда – желанная предсказуемость стереотипных сюжетов. В отличие от европейского кино, где базовым жанром стала психологическая драма, в кинематографе Азии доминирует мелодрама – с ее дидактическим посылом, с четким разграничением элементов добра и зла, с опорой на общинные ценности, на коллективное бессознательное патриархальных сообществ. Дело не в особой сентиментальности местного зрителя, а в том, что его привлекает внятность жанровых схем, свойственная сказочному фольклору. Каркас мелодрамы проступает в криминальных триллерах и в легких комедиях, в фильмах ужасов и в батальных картинах.
Для носителя традиционного сознания индивид без опоры на «большую семью» (род или клан) – никчемен, сир и убог. Член общины нуждается в одобрении ближних, он должен чувствовать свое место в системе соподчиненности, в цепочке динамических взаимосвязей старших и младших. Сама ситуация вовлеченности в жизнь «своих» (земляков, соплеменников, соседей) заключает в себе плюсы и минусы – двойственность, чреватую противоречиями и внутренними конфликтами. Принадлежность к «большой группе» дает человеку ощущение защищенности – укорененности в ряду поколений, в определенной точке пространства, в веках. Но вместе с тем лишает вольнолюбивую личность свободы маневра. Индивид, ориентированный на самореализацию, рано или поздно ощущает себя пленником нормативных поведенческих рамок, свода правил, сдерживающих его рост. Разрыв с общинными установками означает «потерю лица» и «одиночное плавание». Потому неотвязной темой авторского кино огромного континента была и остается эмансипация личности, перекройка сознания – освобождение от застарелых догм. Нежелание режиссеров выносить сор из избы, боязнь представить «большую семью» в невыгодном свете, поколебать ее престиж тормозит развитие азиатской документалистики. Борцы за прогресс снимают порой жесткое неигровое кино, но доминируют все же иные, комплиментарные настроения.
Дает о себе знать ощутимый зазор между культурными предпочтениями вестернизированной элиты и вкусами масс. Разлом, пролегающий между «продуктом народного потребления» и артхаусным кино в Азии глубже и очевиднее, чем в Европе. Авторские картины создаются в расчете на международный прокат. Их просто не окупить на внутреннем рынке. Фильмы тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакуна, неоднократного призера Каннского фестиваля, делают кассу на Западе, мелькнув скоротечно на двух-трех экранах в родной стране. В финансировании артхаусных картин участвуют западные продюсеры и европейские фонды. Режиссерам волей-неволей приходится адаптировать этнический материал для зарубежной аудитории, ориентируясь на европейские образцы и стереотипы восприятия западного зрителя. Некоторые азиатские авторы и вовсе оседают в Европе. Даровитый афганский прозаик и кинематографист Атик Рахими, поселившись в Париже, стал «французским режиссером афганского происхождения». Фильмы свои он снимает в родных краях, но нацелены они на европейскую аудиторию.
Экспортным потенциалом – на пространствах культурного континента – обладает лишь массовая продукция Гонконга и Болливуда. Та, что основана на вековых дидактических архетипах. Этот импортированный продукт функционирует в качестве своеобразного квазифольклора, возмещает – для локального зрителя – отсутствие (или огрехи) национального массового кино. Индийские фильмы были особо любимы на Востоке бывшего СССР – и в центральноазиатских республиках и в этнических регионах российской Азии. Тувинец или узбек находил в болливудской кинопродукции то, чего не мог отыскать в фильмах, снятых в Москве, – образ мира, соразмерный критериям его собственной (традиционной) культуры.
Вряд ли кто-то надумает отрицать принадлежность кино Монголии к азиатскому полю, как и то, что этносы тюрко-монгольского круга живут в российской Сибири. Тем не менее все фильмы, сделанные на территории от Калининграда до Курил, – по умолчанию – принято относить к кино Восточной Европы. Загвоздка в том, что этническое кино народов российской Азии, фильмы, снятые на сибирских языках и не предназначенные для федерального кинопроката, плохо вписывается в «европейский контекст».
В соответствии с нынешней фестивальной номенклатурой такое кино идет на отбор к специалистам по кинематографу стран бывшего СССР и сопредельной Восточной Европы. Знание общего лингва франка, русского языка, оказывается в данном случае важнее понимания различных культурных нюансов. (Не назначают же единого «уполномоченного» по всем территориям бывшей Британской империи – Австралии, Белиза, Нигерии и Сингапура – на основании общности официального языка. Очевидно несходство национальных традиций.)
Русскоговорящий отборщик глядит на этническое кино глазами слависта, а не востоковеда. Потому фильмы малых народов российской Азии подсознательно отторгаются им: «федеральная» проблематика понятнее и москвичу, и обрусевшему европейцу. Если бы фильмами из Якутии, Бурятии или Тувы занимались тюркологи / синологи, а не русисты, у этих картин появилось бы больше шансов заявить о себе за пределами региона. Кино российской Азии – по недомыслию – игнорируют и фестивали «трех континентов», представляющие картины из Азии, Африки и Латинской Америки. Мешает зашоренность функционеров. Помню искреннее недоумение, проступавшее на лицах французских кураторов, которым я тщетно пытался доказывать: кино коренных народов Сибири следует относить к азиатскому, а не к (велико)русскому культурному полю. Истеблишмент европейски ориентированных российских столиц равнодушен к творческой жизни «восточных окраин». Московские критики и репортеры привыкли писать о фильмах российской Азии как о забавном курьезе, локальной диковине, не разделяя при этом два разнородных понятия – этническое искусство и провинциальный самодел, обезличенный самопал. Концепция многонационального российского кино чужда идеологам всеобщей унификации.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: