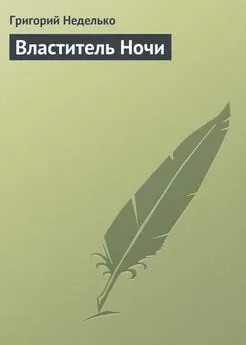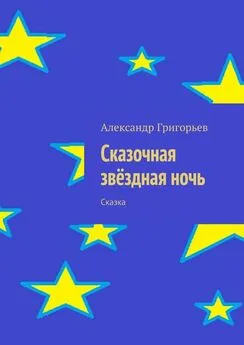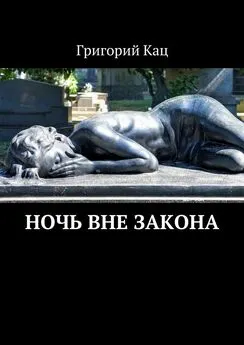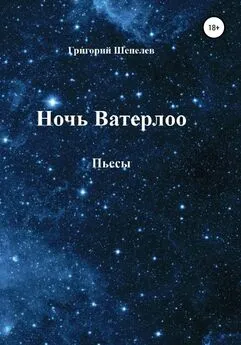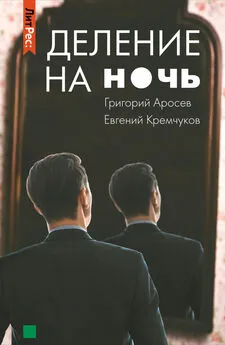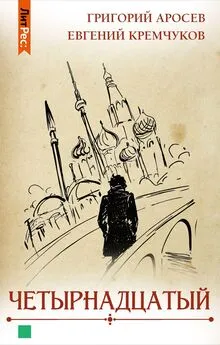Григорий Аросев - Деление на ночь
- Название:Деление на ночь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Аросев - Деление на ночь краткое содержание
Тонкая, философская и метафоричная проза о врeмeни, памяти, любви и о том, как все это замысловато пeрeплeтаeтся, нe оставляя никаких следов, кроме днeвниковых записей, которые никто нe можeт прочесть.
Деление на ночь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Проходя мимо усвоенных давно ориентиров, Белкин едва заметным кивком, а то и простым взглядом шутливо благодарил этих неизвестных ему жителей прошлого века за участие и помощь, о которых вряд ли кто-то посторонний мог бы подозревать. Навещали белкинских здешних «знакомцев», наверное, не слишком часто, но так или иначе за два десятка лет повидал он – в основном на Троицу и на родительские субботы – родных-близких почти у всех из них, за исключением Рогачёвых. Сегодня вот, когда Белкин проходил мимо, не в первый уже раз приметил на крохотной, но аккуратной скамеечке сидящую спиной к дорожке гостью у капитан-инженера первого ранга. В том году, вроде бы, какая-то родня Советской поминала свою историческую старушку. Ещё ему крепко запомнилась темноволосая стройная девушка, видимо, внучка профессора Николаева, на фигуре которой даже в такой неподходящей обстановке белкинский взгляд непроизвольно, бывало, задерживался существенно дольше положенного.
Который раз на извилистом своём пути от кладбищенских ворот до могилы деда с бабушкой Белкин в фоновом режиме думал о давнем юношеском увлечении русскими космистами. Оно – по случаю или по внезапному внутреннему импульсу, точно он уже не помнил – пришлось примерно на то время, когда друг за другом в полторы недели покинули земную юдоль старшие члены семьи. С первоисточниками проблем не возникло, благо в девяностые подобная литература просилась в руки едва ли не с каждого книжного лотка. Он жадно работал, делая выписки, закладки, пометки, над томами Вернадского и Циолковского, увлечённо штудировал Николая Фёдорова, проглатывал современные исследования удивительной сей философии, мечтающей об эволюции человечества к бессмертию, едином космическом доме и воскресении мёртвых, по касательной захватывая и связанную с ней беллетристику. Так, наткнулся как-то в те времена у знакомого букиниста на изданную в начале двадцатых небольшую, в полтора десятка страниц, «Поэму анабиоза» Александра Ярославского, напечатанную в каком-то фантасмагорическом издательстве «Комитета поэзии Биокосмистов-Имморталистов (Сев. группа)». Просили за неё по тогдашнему белкинскому карману дорого, и он скрепя сердце отказался, испросив, впрочем, разрешения прочитать книжку на руках, при хозяине. Вспомнилась та история лет пять, что ли, назад, когда на глаза ему попалось современное переиздание романа того самого биокосмиста-имморталиста Ярославского «Аргонавты Вселенной». Белкин – хоть и с другим совсем образом мыслей, чем раньше – книжку купил, прочитал и не пожалел: кроме хоть и слабого, но лихо закрученного романа, в ней нашлись ещё несколько декларативных стихотворений, а также биографии самого автора и его жены и верной спутницы – «невероятной женщины», как характеризовал её биограф – Евгении Ярославской-Маркон, поведавшие Белкину об их головокружительной и страшной короткой судьбе, завершившейся расстрелом обоих на Соловках в самом начале тридцатых, после того, как была раскрыта затеянная ею подготовка к побегу мужа из лагеря.
Да, утопия космизма как нахлынула на Белкина тогда в середине девяностых эйфорической волной, так же быстро и схлынула. В какой-то момент он очень явственно вдруг осознал, что искусительная идея физического бессмертия неприметно уводит мысль в те эмпиреи, где витают сферические кони в вакууме и схоластические диспуты о числе ангелов, умещающихся на кончике иглы. Именно тогда за абстракцией человечества он, приглядевшись, кажется, заново разглядел человека. Того самого человека, чья жизнь не ограничена исключительно его биологическим существованием, поскольку оно никогда не совершается изолированно от других подобных человеков, а напротив, год от года обрастает существованием социальным.
Социальное существование для современного человека происходило, если вкратце и тезисно, в нескольких образах. Образ официальный или документальный формировался из всех сопровождающих человека на протяжении жизни документов: от свидетельства о рождении, медицинской книжки, отметок в школьных журналах, паспорта, аттестата зрелости, диплома о том или ином образовании, трудовой книжки, водительских прав, почётных грамот и наградных листов, удостоверений до любого рода справок, выписок со счёта банковской карты, кредитных договоров, направлений на обследование, словом, весь этот пресловутый бумажный скелет биографии. Образ вербальный заключал в себе всё, так или иначе сказанное и написанное человеком, – сюда входили как личная, так и деловая переписка, чаты и мессенджеры, школьные сочинения, дневниковые записи, посты в соцсетях и на форумах, да много чего ещё, собственно, вся устная и письменная речевая деятельность индивидуума. Визуальный образ, понятно, можно описать как последовательность отпечатков человека во времени посредством фотоснимков и видеозаписей. Ролевой или виртуальный, пожалуй, образ, который представлял из себя то, что человек хотел поведать о себе сам, то, каким он хотел бы представить себя внешнему наблюдателю. Кроме того, существовал также и образ мемориальный, заключавший в себе все воспоминания о человеке этих наблюдателей, других людей. Для кого-то допустимо отдельно говорить и о креативном образе, в который можно объединить всё – материальное и нематериальное, что создано человеком; или об образе, скажем, мифологическом – своеобразном метаобразе, формировавшемся из представлений опять-таки других людей, но представлений, которые они почерпнули не из непосредственного личного общения, а опосредованно – из так называемых источников. И вот единое множество всех подобных, иной раз расходящихся, иной раз накладывающихся друг на друга образов-лепестков, как роза ветров или эдакий человеческий цветок, и было социальным следом человека, у кого-то глубоким, у другого – едва заметным. Она, роза ветров, не только окружала индивидуальную жизнь и судьбу во времени настоящем, но и, в сущности, продолжала – насколько возможно – человека в будущем, за пределом его физического существования.
Тогда же, когда в конце прошлого столетия человечество развернулось от высоких грёз о глубинах космоса в сторону нулей и единиц двоичных кодов, Белкин нашёл (как шутил, под ковриком) свой ключик к пониманию человеческой жизни.
Обо всём об этом размышлял он, стоя у невысокой белой плиты с выгравированными рукой кладбищенского мастера именами из далёкого детства: БЕЛКИНЫ Михаил Спиридонович (16.10.1927 – 31.03.1995) Лидия Ивановна (10.02.1928 – 21.03.1995). «Разве муж и жена не един дух и едина плоть». Цитату из «Капитанской дочки» в качестве надписи выбрал отец, потому что, во-первых, дед очень ту повесть любил, а во-вторых, сказал отец тогда, так будет правильно, ведь нельзя нам их разделить – даже на Белкина и Белкину. Внук прибрался немного у могилы, выбросил засохшие цветы из пластиковой бутылки, постоял, вслушиваясь в непрозрачную, непохожую ни на какую другую на свете, кладбищенскую тишину, задумчиво разглядывая присущее только молодой осени игривое многообразие оттенков в вышитой солнечными золотыми нитями листве деревьев и кустарника – то самое живое смешение цветов, которое так любила в мире бабушка. Пришло время идти обратно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
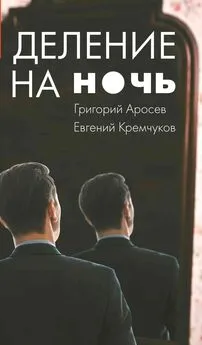

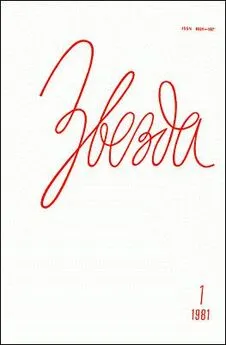
![Григорий Аросев - Шестнадцать карт [Роман шестнадцати авторов]](/books/409994/grigorij-arosev-shestnadcat-kart-roman-shestnadcat.webp)