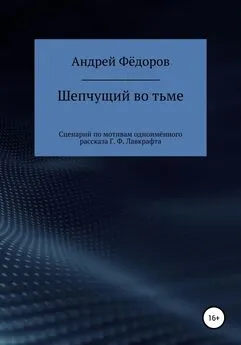Андрей Фёдоров - Желтый караван
- Название:Желтый караван
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1991
- Город:Москва
- ISBN:5-270-01253-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Фёдоров - Желтый караван краткое содержание
Желтый караван - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
С тех пор он бросил живопись. Стал медленно и неохотно двигаться и даже съел ложкой икру из большой банки, которую берег к юбилею. Съел неохотно, невкусно, даже без хлеба. Он привык, что над его головой топают постояльцы, и не удивился однажды, когда вечером к нему спустилась одна жиличка-блондинка:
— А вы все это с натуры рисуете? Вы живописец? А вы тогда почему такой мрачный? Вы еще молодой, а, я вижу, вы умирать собрались! А вы не подниметесь ко мне? У меня там темно и кто-то за шкафом сидит!
Старик пожал плечами и неохотно, кутаясь, пошел за блондинкой. За шкафом никто, конечно, не сидел.
Блондинка была в прозрачной рубашке. Вся просвечивала.
— Ты же ведьма! — догадался старик…
Наутро выяснилось, что она хочет ему позировать.
— Бросил же я! — смеялся старик. — Нету у меня способностей!
— Нет есть! — сердилась она. — Просто тебе не хватало меня!
Они часто бродили тогда по пустеющему пляжу. Море становилось стальным, окна отливали льдом и синью. Сезон кончался. Но она не уезжала.
— Рисуй! А то я уеду! — грозилась она. А ему этого не хотелось. Он этого боялся. И однажды отодрал от стола присохшие тюбики, набрал кистей в кулак, достал тот, заветный, дефицитными свинцовыми белилами загрунтованный холст.
— Давай, давай! Мне охота, может, в веках остаться!
Он выдавил на палитру охру, белила и кадмий. Смотрел на «ведьму» и видел рождающиеся и умирающие тона, видел впервые, как бежит по коже воздух, как возникают на ней охряно-зеленоватый, бледно-малиновый. Как синеют тона вслед за взмахами занавесок. И начинал понимать, что тело может быть не просто красивым и желанным, но и ранимым и беззащитным. И старик запел. Черт-те что, что-то бравурное, какую-то смесь из Гершвина и Окуджавы, чаще всего повторяя «это любовь была». Краски ложились сочно и скользко, ухал прибой, мотались занавески… он, наверное, очень боялся, что скоро она уедет и ничего не останется от нее, кроме картины…
— Вот и все! — сказала она. — Я все угадала!
На другое утро старик ее не нашел.
Не нашел еще своего серебряного подстаканника, пачки десятирублевок в ящике стола, может быть, и еще чего-нибудь не хватало, но старик не стал и проверять. Он бродил по комнатам, ушибая коленки о стулья и озираясь, а картину на мольберте вообще не замечал.
За окном давно уже раздавался «очередями» знакомый кашель, на что старик никак не реагировал и наконец поднялся к нему брат.
— Ты смотри! Нет! Брось! Ты где это взял?
Он зашел даже сзади:
— Нет! Во! Ты погоди, я тебе сейчас одного моржа приведу! Погоди!
Он вышел и тут же вернулся с молодчиком в плавках. С огромной дремучей бородой и черными очками вместо лица. Очки тот, правда, тут же уронил и стал шарить бородой по картине:
— Свежая! А-ля прима… это как же? — он оглядел комнату, где на стенах еще оставались прежние картины. — Но… эту тоже вы написали?
— Какая разница?
— Да бросьте, мужики! — закричал брат. — Это же не он! Это же…
Бородач махнул на него рукой и наклонился к старику:
— Вы что? Вы эту женщину… ну… как бы любили? Или как?
— Ее?! — оглянулся на картину старик. — Ведьму?! Я не знаю. Может, и любил. Вчера.
— Но… эта потянет! — закричал бородач.
— Куда еще? — спросил брат.
— А вон! — махнул бородач в окно. — В мир! Хоть ты ее продавай, хоть дари! Хоть милиционера с наганом ставь! Все! Нет ей смерти! Нет цены! И не твоя она теперь!
— Не его! — согласился брат. — Точно! Милицию надо вызывать!
Бородач же сел перед картиной и стал качаться и петь что-то, похожее на вчерашнюю «песню» старика…
— Как же так? — спросил старик. — Не понимаю.
На другое утро старик пошел к учителю, чтобы сказать ему, что он ничего не понял, что нельзя это понять, когда что-то или, если честно, кого-то любишь и даже вот совершаешь чудеса в честь этого любимого, а оно (!) обманывает и предает. Он пришел, чтобы сказать это, но ему сказали, что учитель давно уже умер».
Мне понравилась сцена у мецената. Никакой мистики, болезненного резонерства, манерности я не нашел. Обнаружил зато, что подтвердились мои подозрения: на кухне у затворника я заметил кисти в стакане и заметил краску под ногтями у него.
Стали теперь понятными описанные «нижними хозяевами» вокальные эксцессы, объяснимыми — зловещие запахи.
Рассказ «старика» вел к «любви и одержимости», пусть в инфантильном варианте. «Внизу», на первом этаже проступала и «ненависть», если вспомнить поведение голубоглазой хозяйки. Почему?
История жизни «старика» не давала мне оснований помещать его даже в круг «патологических личностей».
«Слушай, психиатр! — думал я. — Ортодоксальное течение ведет в болото, где мы увязнем (или будем сидеть окрест на деревьях первобытными обезьянами), поперек течения должны же встревать одержимые… да, но в то же время любой парадокс уязвим или, наоборот, увешан восторгами резонеров, и столько вокруг него возникает сразу жуликов и сумасшедших! Конечно, мой-то «старик» пытается, судя по всему, идти путем не слишком модного реализма, что тоже в его пользу. Прочие «измы», из совсем современных, у психиатров сразу получают общее видовое название «искаженка», коей наши часто владеющие иллюзорно точной техникой пациенты, увешивают стены палат и кабинетов, создавая иногда «измы», уничижающие не только Ива Таньги, но и самого Дали, оставляя ему разве что «Христа на кресте» (не потому ли, что в «Христе» воплощена общечеловеческая идея доброты и жертвенности?). Да и жулики-«искаженщики» всегда наготове: не дай бог освободится в социуме какая ниша, раньше, скажем, заполненная «ангажированным искусством».
И еще: самое «индивидуалистическое» из искусств — классический джаз в полную силу проявляет себя только в единении с его потребителями…»
— Это ты к чему, психиатр? — спросил я себя, психиатра. «Чирк» — воробей задел за подоконник, убив чуть не родившийся вывод, и рассеянные мысли вместе с прозрачной стаей воробьев перелетели на скелет яблони…
В окно я видел сейчас бархатных ворон на колких ветках, ноздреватый и пыльно-серый, как пена над мясным бульоном, оседающий снег и, очень далеко, три-четыре кучки домов на равнине — острова деревень…
Четыреста лет назад на холмы, пруды и крыши в одной горной долине лег первый снег. Он пахнул свежо, остро, грустно, и хоть к вечеру чуть потеплело, снег так и не упал с веток и крыш, а на прудах лед обмели, дети и взрослые высыпали на лед, потому что это был первый лед, первый снег, первый зимний вечер, первые цепочки следов…
Как же он спешил, как хотел успеть, пока совсем не стемнело, оставить все это нам, тот «старик» четыреста лет назад! Сажал ворон на ветки, прорывал снег цепочками следов, слышал (и мы слышим это и сейчас) детские голоса в вечернем зеленоватом воздухе. Вот он пустил по тропам своих ближних, трижды до того им проклятых, обреченных им на пустую суету, а вдруг жизнь обрела смысл и вечную, как удаляющиеся к горизонту острова деревень, продленность. В памяти тысяч людей навсегда остается этот вечер, а в искусстве с тех пор не удалось сделать ничего выше. Только иногда — равное. Он перешагнул некую грань раз и навсегда, словно открыв закон всемирного тяготения или новую галактику. Как это получилось у фламандского «старика»? Почему «Подъезжая под Ижоры» гениально?.. Почему «золото» Рубенса часто уступает трагическому «серебру» Гойи?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

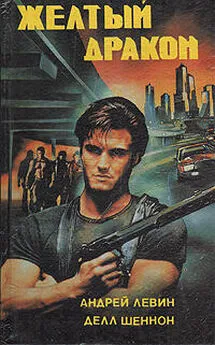

![Андрей Левин - Желтый дракон Цзяо [другая редакция]](/books/1067215/andrej-levin-zheltyj-drakon-czyao-drugaya-redakciya.webp)