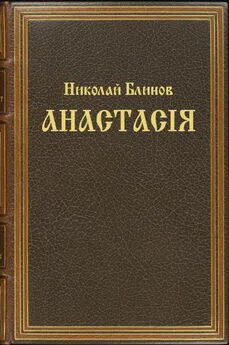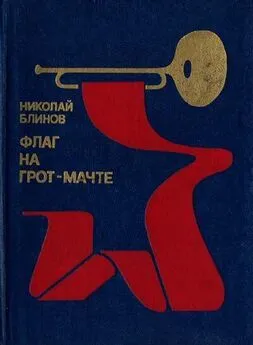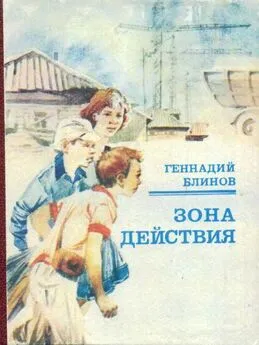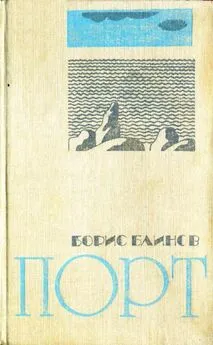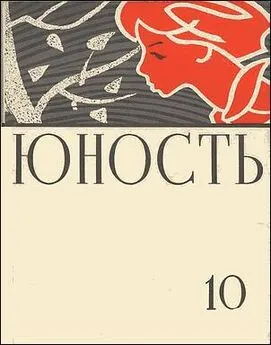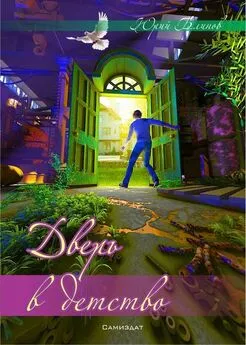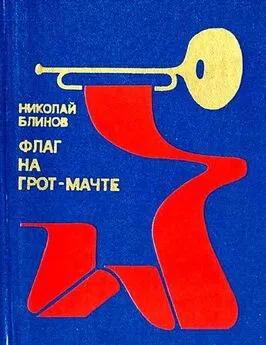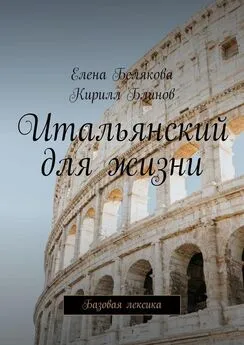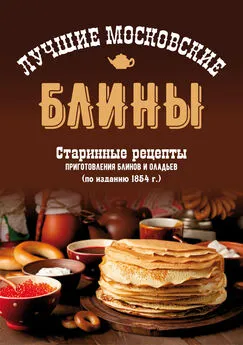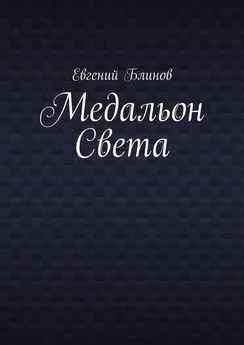Николай Блинов - Анастасiя
- Название:Анастасiя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2007
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Блинов - Анастасiя краткое содержание
На эти вопросы пытаются получить ответы герои романа, современные физики и инженеры, путешествуя по России времен Ивана Грозного.
Анастасiя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я вспомнил, как для подготовки к экзаменам в аспирантуру мы с Лехой Васильевым поселились в деревне Мошки возле села Боголюбово, где был убит когда-то князь Андрей Боголюбский, у Лехиной двоюродной бабки Устиньи. Изба её с резными наличниками и кирпичной трубой русской печи, была точно такой же, какие стояли при Иване Грозном.
Русская печка, как и раньше, топилась березовыми поленьями, сложенными во дворе ровной стенкой. И похоже скрипела калитка на участке, закрываемая деревянной щеколдою. Также по утрам бабы носили на коромыслах ведра с водой, и мычало стадо, уходя в луга. И мы с Лехой первозданно пили на завтрак сырое молоко из крынки, заедая его ломтями ржаного хлеба от домашнего каравая, испеченного бабой Устей только что в русской просторной печи на железном противне.
Когда надоедало зубрить конспекты, мы шли на речку Нерль, купались в холодной чистой воде или затягивали с мужиками бредешок и вынимали из ячеек сетки серебряную плотву, зеленых окуней с красными плавниками, прозрачных пескарей, черных линей и полосатых судаков. Рыба тоже не изменилась.
И так же румяны и смешливы были девицы у околиц.
Мне казалось тогда, будто время остановилось, что так было и будет всегда. Отчаянный утренний крик петуха, редкий звон колокольчика на шее бабкиной коровы Машки, пятна солнца на тюлевой занавеске низкого окна, где на подоконнике цветет вечная герань… И запахи свежей срезанной травы, теплый дух парного молока, едва ощутимый тревожный аромат горелого лампадного масла от киота с образами нехитрого северного письма.
Те люди, пожалуй, были более открыты и легковерны. Их, например, ничего не стоило убедить в том, что завтра придет неминуемая кара за грехи в виде грома и молнии, или в том, что в земле-Китае живут люди с песьими головами.
Были секты, иосифляне, нестяжатели, еретики. Спорили, сколько чертей уместится на острие иглы. Много десятилетий яростно обсуждали, как нужно петь «Аллилуйю», два или три раза — это было очень важно: Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже! Те, которые были за три «Аллилуйи», трегубили её, а те, которые были за две, сугубили.
С тех пор, когда говорят: «Не надо усугублять!», то не знают уже, наверное, что это означает: «Не говори „Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе, Боже!“, а трегубь: „Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе, Боже!“»
Так что, пожалуй, и в общественных движениях разницы особой тоже не существовало. Нынче тоже норовят усугублять.
При этом больше нашего любили всякие праздники, публичные действа: крестные ходы, венчания, выезды царя и царицы, казни злодеев на площадях. Сердце сладко ухало, сообщая, что оно живое, когда палач страшно ахнув, опускал тяжелый топор, и потом, деловито нагнувшись, поднимал за волосы отрубленную голову и показывал её безмолвствующей толпе.
У нас для удовлетворения подобных эмоций есть подделки: детективы, ужастики, фильмы «экшен» — мы значительно чаще любуемся жестокостью и наслаждаемся кровью.
Царь был наместник Бога, мог казнить, мог миловать… А его вправе был судить только сам Господь-Бог. И коррупция там была почти такая же, как у нас, но «кормление» бояр и чиновников оговаривалось законом. Царь, например, мог отдать кому-то из своих приближенных «в кормление» целую волость. А «маржу» или «откат», по-нашему, определял сам царев ставленник.
Если поставленный на «кормление» уж очень злоимствовал, грабил, в казну не платил, что положено, царь-батюшка такому голову приказывал рубить. И рубили прилюдно, не стеснялись.
А суд был совсем такой же, басманный, то бишь, шемякин.
Бабулька-божий одуванчик — снесет Судейкину лукошко со свежими яичками, глянь, он и присудит её соседу построить баньку сгоревшую. Больше всего тяжб происходило между беглыми крестьянами, не по закону сменившими хозяев, и землевладельцами. Тут почему-то победа всегда была за хозяином: у него, видно, лукошко с яичками оказывалось поболе.
Ну и наказывали тогда по-другому: приговаривали не к колонии строгого режима, а, скажем, дать пятьдесят плетей принародно на центральной площади города. Там в землю вкопано было крепкое толстое бревно не менее охвата. Осужденного привязывали к нему, и палач в кожаном фартуке «сполнял» приговор справедливого суда под одобрительные или сочувственные крики зевак.
Не будем забывать, что я в облике Геннадия приходил всего лишь в виртуальный шестнадцатый век, который создан был моими друзьями Матвеем Шумским и Лехой Васильевым, хоть и после достаточно серьезных исторических изысканий. Но, как ни верти, мы поворачивали стрелу времени и смотрели туда из нашего двадцать первого века, набирая программу на двухъядерном компьютере. Может быть, еще и потому тот мир так похож был на этот.
Как-то быстро я в облике Геннадия приспособился к окружающей действительности, к Бытию.
Очень скоро я стал ощущать странное, зеркальное какое-то чувство. Это уже была и не игра вовсе, а просто жизнь. Другая, но тоже настоящая. А потом и совсем уж наоборот.
Мне временами начинало казаться, что этот виртуальный мир и есть мир настоящий, а там в будущем времени, в веке далеком — это как в сказке, все неправда, все придумано, чтобы было пострашнее и почуднее. А правда-то одна, простая, вот сейчас.
Взойдет солнце, замычат утром коровы и, бренча колокольцами, побредут по московским улицам, вдоль Арбата в луга. Зазвучат колокола сорока сороков церквей московских, то там, то сям, словно высоко по воздуху переговариваясь через треугольные, низкие крыши изб и сараев, передавая друг другу божественные зовы. Заскрипят, застучат телеги биндюжников, ведущих вереницы возов с провиантом для большого города…
И еще одна странность все больше мной овладевала. Пласты времени сдвигались и накладывались друг на друга. Стрела времени то и дело меняла направление. Ко мне вдруг стала приходить снова та постоянная душевная зависимость, спутанная с ощущением несвободы, которая владела сердцем в том одиннадцатом «б», где в спортивном зале гулким эхом отдавались в ушах удары мяча и пахло пылью и свежим потом, а на уроках наступало ожидание неизбежной расплаты за проигранное вчера в футбол домашнее задание.
Ты, словно бы, делаешься постоянно больным, привязанным к объекту своей несвободы невидимой цепью, как у Станислава Лемма в «Солярисе» фантомы, созданные океаном, были неспособны существовать без своего кумира ни на минуту.
При том, что у нее было женское имя, у этой несвободы, так же как и тогда, была она недоступной и неземной, словно звезда, одна, яркая, на пустом черном небе. Никакого отношения к сексу эта зависимость не имела, секс в моем виртуальном мире отсутствовал. Я был божьим человеком.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: