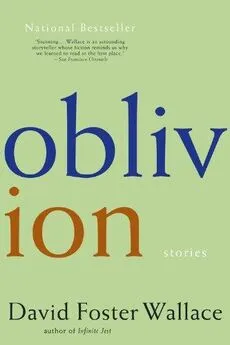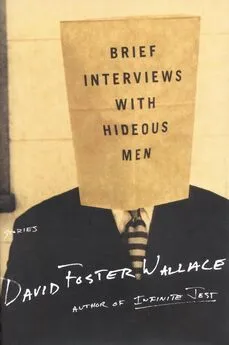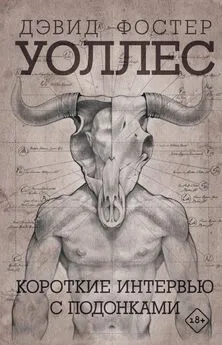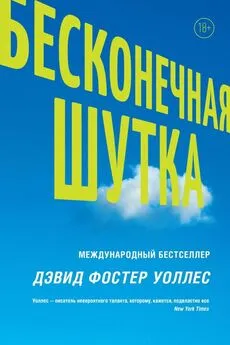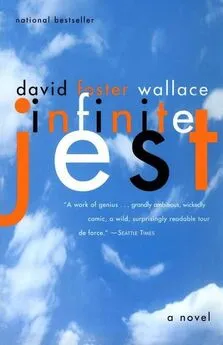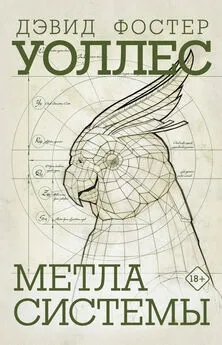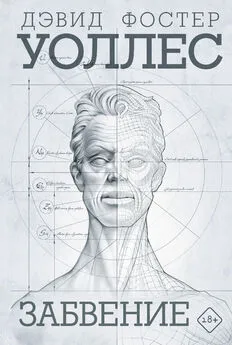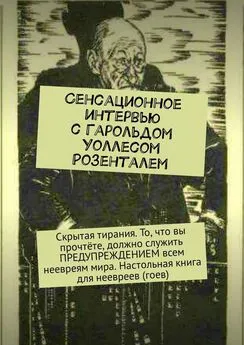Дэвид Уоллес - Интервью Ларри Макэффри с Дэвидом Фостер Уоллесом
- Название:Интервью Ларри Макэффри с Дэвидом Фостер Уоллесом
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дэвид Уоллес - Интервью Ларри Макэффри с Дэвидом Фостер Уоллесом краткое содержание
Интервью Ларри Макэффри с Дэвидом Фостер Уоллесом - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
ЛМ: Конечно, даже „Метлу системы“ можно прочесть как метапрозу, как книгу о языке и отношениях между словами и реальностью.
Д ФВ: Думай о „Метле системы“, как о чувствительной истории чувствительного МТА, который только что пережил кризис среднего возраста, из-за чего ушел от холодной интеллектуальной аналитической математики к холодному интеллектуальному подходу к литературе и литературной теории Остина-Виттгенштейна-Дерриды, а его экзистенциальным ужасом стало не то, что он лишь калькулятор с температурой тела 36,6, а что он лишь лингвистический конструкт. Этот МТА уже писал много простенького юмора, и любит шутки, так что решает написать зашифрованную автобиографию и одновременно смешную постструктуралистскую шуточку: и вот получается Ленор, персонаж в истории, которая ужасно боится, что она на самом деле только персонаж в истории. И, успешно укрывшись за сменой пола, шутками и теоретическими аллюзиями, я написал маленький чувствительный самовлюбленный роман воспитания. Больше всего я похихикал, когда книга вышла и во всех рецензиях — неважно, втоптали ли они книгу в пыль или нет — все хвалили ее за то, что это хотя бы не очередной маленький чувствительный роман воспитания.
ЛМ: Труды Виттгенштейна, особенно „Трактат“, пронизывают „Метлу системы“ во всех смыслах — и в содержании, и в твоих метафорах. Но в последние годы работы Виттгенштейн пришел к выводу, что язык не способен действовать так, как он описывал в „Трактате“. Не значит ли это, что язык — замкнутая петля: нет проницаемой мембраны, которая позволила бы тому, что внутри, попасть наружу? И если да, тогда книга — „только“ игра? Или если она действительно только языковая игра, это тоже что-то значит?
Д ФВ: Есть трагическая ошибка, которой Виттгенштейн был одержим от „Логико-философского трактата“ 1922 до „Философских исследований“ последних лет. Я имею в виду трагическую, книгобытийную ошибку. Он потерял весь внешний мир из виду. „Картинная“ теория „Трактата“ предполагает, что единственное возможное взаимоотношение между языком и миром — денотативное, описательное. Чтобы язык и означал, и имел отношение к реальности, слова вроде „дерево“ и „дом“ должны были быть маленькими картинками, изображающими деревья и дома. Мимесис. Но ничего больше. Что означает, что мы можем знать только маленькие миметические картинки и говорить только ими. Что отделяет нас, метафизически и навсегда, от внешнего мира. Если веришь в это метафизическое шизо-разделение, остается только два варианта. Первый — что личность со своим языком заперта здесь, а мир остается там, и да никогда им не воссоединиться. Что, даже если правда считать, что картинки языка — миметические, ужасно одинокое предположение. И ведь нет железной гарантии, что картинки „действительно“ миметические, а это значит, что перед нами чистой воды солипсизм. И одна из причин, почему я считаю Витгенштейна истинным художником — он осознал, что нет более ужасного вывода, чем солипсизм. И тогда он отправляет в мусорку все, за что его хвалили в „Трактате“, и пишет „Исследования“, самый внятный и прекрасный аргумент против солипсизма, что когда-либо создавали. Витгенштейн заявляет, что, чтобы язык вообще был возможен, он обязан быть функцией взаимоотношений между людьми (вот почему он так долго приводит аргументы против „личного языка“). У него язык зависим от сообщества, но, к сожалению, мы по-прежнему застряли на идее, что где-то вне нас есть мир-референт, к которому мы не можем присоединиться или который не можем познать, потому что застряли здесь, в языке, хоть мы здесь и все вместе. О, и да, второй вариант. Второй вариант — расширить лингвистический субъект. Расширить себя.
ЛМ: Как Норман Бомбардини в „Метле системы“.
Д ФВ: Да, шутка с Норманом в том, что он буквализирует вариант. Он забывает о диете и ест, пока не вырастет до „бесконечных размеров“ и, таким образом, уничтожит одиночество. Это вилка Витгенштейна: к языку относишься или как к бесконечно малой плотной точке, или он становится миром — и всем снаружи, и всем внутри. Первое изгоняет тебя из Эдема. Последнее кажется более многообещающим. Если мир сам по себе лингвистический конструкт, то „вне“ языка нет ничего, что язык может описывать или на что ссылаться. Это позволяет избежать солипсизма, но ведет прямиком к постмодерну, постструктуралистской дилемме запрета для себя существования независимо от языка. Большинство думает, что это Хайдеггер привел нас к этой вилке, но когда я работал над „Метлой системы“, понял, что истинный архитектор постмодернистской ловушки — Витгенштейн. Он умер прямо перед тем, как открыто признать реальность лингвистической, а не онтологической. Это уничтожает солипсизм, но не ужас. Потому что мы по-прежнему застряли. Суть „Исследований“ в том, что фундаментальная проблема языка — цитирую — „Я в тупике“. Если бы я отделился от языка, если бы я мог как-то отделаться от него, подняться над ним и взглянуть свысока, чтобы, так сказать, составить его карту, я мог бы изучать его „объективно“, разобрать, подвергнуть деконструкции, понять его работу, ограничения и недостатки. Но я так не могу. Я „в“ нем. Мы „в“ языке». Витгенштейн не Хайдеггер, у него язык не «есть» мы, но мы все еще неизбежно «в» нем, так же, как все мы в кантовском понятии пространства-времени. Заключения Витгенштейна кажутся мне очень прочными, всегда казались. И если меня что-то и тревожит с точки зрения писательства, так это что я действительно не знаю выхода из тупика — и никогда не достигну тех ясности и выразительности, каких хочу.
ЛМ: Если говорить о сжатости и ясности, на ум сразу приходит Рэй Карвер, и он, очевидно, тот, кто оказал огромное влияние на ваше поколение.
ДФВ: Минимализм — просто другая сторона рекурсии метапрозы. Основная проблема все еще в трансляции сознания нарратива. И минимализм, и метапроза пытаются решить проблему кардинально разными способами. Противоположными, но настолько, что оба приводят к пустоте. Рекурсивная метапроза поклоняется сознанию нарратива, делает «его» субъектом текста. Минимализм еще хуже, более пустой, потому что он фальшив: он избегает не только самоотсылок, но любой нарративной личности вообще, пытается притвориться, что в тексте нет нарративного сознания. Блин, это так по-американски: или назвать что-то Богом и космосом и поклоняться, или убить.
ЛМ: Но разве Карвер так делал? Я бы сказал, что его нарративный голос подчеркнуто «там», как у Хемингуэя. О нем нельзя забыть.
ДФВ: Я говорил о минималистах, не о Карвере. Карвер был художником, но не минималистом. Хотя он и считается основателем американского минимализма. Литературные «школы» — для ручковращателей. Основатель движения никогда сам не входит в движение. Карвер использует техники и стили, которые критики зовут «минималистскими», но в его случае — как Джойс, или Набоков, или ранние Барт и Кувер — он использует формальные инновации ради своего оригинального видения. Карвер изобрел — или воскресил, если хочешь процитировать Хемингуэя — техники минимализма, чтобы изобразить мир, который видел так, как никто прежде. И это мрачный мир, истощенный, пустой и полный безмолвных, забитых людей, но минималистские техники, что применил Карвер, были для этого идеальны; они этот мир создавали. И минимализм не был для Карвера какой-то строгой эстетической программой, которую он унаследовал. Карвер был захвачен не минимализмом, а своими историями, каждой из них. И когда минимализм им не помогал, он от него с легкостью избавлялся. Если он считал, что истории больше пойдет на пользу расширение, а не абляция, то он расширял, как в «Ванной», которую потом превратил в значительно большую историю. Он преследовал щелчок. Но в какой-то момент стиль «минимализма» устоялся. Критики родили, провозгласили и распространили движение. И вот приходят ручковращатели. Что особенно опасно в техниках Карвера — кажется, будто их легко имитировать. Непохоже, что каждое слово, строчка и черновик выстраданы. В этом тоже его гений. Кажется, будто можно написать минималистский текст, не страдая. И можно. Но плохой.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: