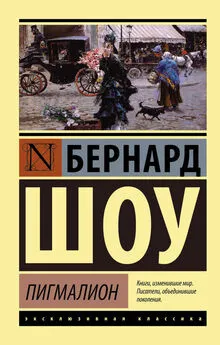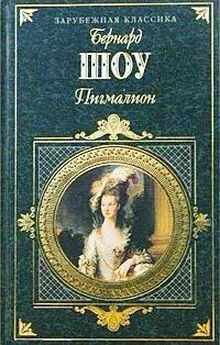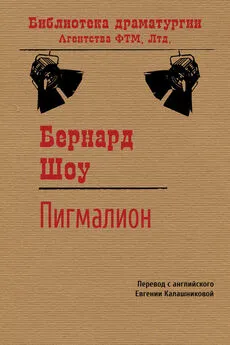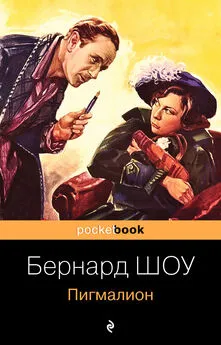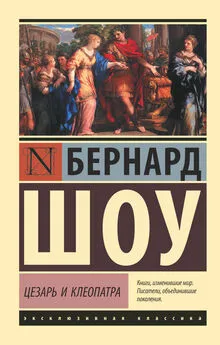Бернард Шоу - Пигмалион. Кандида. Смуглая леди сонетов (сборник)
- Название:Пигмалион. Кандида. Смуглая леди сонетов (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентАСТc9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-097076-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Бернард Шоу - Пигмалион. Кандида. Смуглая леди сонетов (сборник) краткое содержание
В сборник вошли три пьесы Бернарда Шоу. Среди них самая знаменитая – «Пигмалион» (1912), по которой снято множество фильмов и поставлен легендарный бродвейский мюзикл «Моя прекрасная леди». В основе сюжета – древнегреческий миф о том, как скульптор старается оживить созданную им прекрасную статую. А герой пьесы Шоу из простой цветочницы за 6 месяцев пытается сделать утонченную аристократку. «Пигмалион» – это насмешка над поклонниками «голубой крови»… каждая моя пьеса была камнем, который я бросал в окна викторианского благополучия», – говорил Шоу. В 1977 г. по этой пьесе был поставлен фильм-балет с Е. Максимовой и М. Лиепой. «Пигмалион» и сейчас с успехом идет в театрах всего мира.
Также в издание включены пьеса «Кандида» (1895) – о том непонятном и загадочном, не поддающемся рациональному объяснению, за что женщина может любить мужчину; и «Смуглая леди сонетов» (1910) – своеобразная инсценировка скрытого сюжета шекспировских сонетов.
Пигмалион. Кандида. Смуглая леди сонетов (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И вот в свете этого рассмотрим теперь шекспировских королей, лордов и джентльменов!
Разве имел бы основание сам Джон Болл или пророк Иеремия считать, что Шекспир польстил этим господам? Поистине, не проходило по сцене вереницы негодяев, развенчанных с большей беспощадностью! Даже монарх, который останавливает мятежника, сославшись на божественный ореол, охраняющий короля, – пьяница и похотливый убийца, и его вскоре с презрением приканчивают на наших глазах, несмотря на его божественный ореол.
Я мог бы написать не менее доказательную главу о диккенсовского толка предубежденности Шекспира против трона, знати и джентри в целом, чем это сделали мистер Харрис и Эрнест Кросби, стоя на противоположных позициях. Я даже готов пойти дальше и утверждать, что Шекспир был неграмотен в своем понимании феодализма. И он, конечно же, не предвидел демократического коллективизма. Если не считать таких банальных понятий, как война и патриотизм, Шекспир был насквозь капером. Ни один человек в его пьесах, будь то король или горожанин, не выполняет никакого гражданского долга для блага общества и не имеет об этом ни малейшего понятия, разбираясь разве что в деле назначения констеблей; тут Шекспир привлекал внимание к злоупотреблениям совсем в духе фабианского общества. Его волновало пьянство, а также идолопоклонство и лицемерие в системе судопроизводства, но средство против них он видел только в индивидуальной трезвости и свободе от идолопоклоннических иллюзий, насколько он вообще мог предложить какое-нибудь средство, а не просто потерять веру в человечество. Его первое и последнее слово о парламенте было: «Купи себе стеклянные глаза и делай вид, как негодяй политик, что видишь то, чего не видишь ты».
Он и не представлял, с каким чувством сегодняшние поборники национализации земель относятся к тому, что он принимал участие в огораживании общинных земель в Уэлкоме. И объяснение тут не в его умственной отсталости, а в том, что английские земли в ту эпоху нуждались в индивидуальном владении и возделывании, а английская конституция нуждалась в принципах индивидуальной свободы, которые исповедовали виги.
Шекспир и британская публика
Я отверг идею мистера Харриса о том, что Шекспир умер от разбитого сердца в «муках отвергнутой любви». Я привел свои доводы в пользу идеи, что Шекспир умер мужественно и даже в несколько легкомысленном настроении, которое показалось бы неуместным в епископе. О чем, однако, данные мистера Харриса свидетельствуют, так это о том, что у Шекспира был-таки повод для обиды, и весьма серьезный. Его могли бросить десять Смуглых леди, и он бы это перенес не моргнув глазом, но вот отношение к нему британской публики – дело иное. Идолопоклонство, смущавшее Бена Джонсона, ни в коей мере не было распространенным явлением, и к тому же, как всякое идолопоклонство такого типа, оно было обусловлено скорее магией шекспировского таланта, чем его воззрениями.
Начало его карьеры преуспевающего драматурга положила трилогия о Генрихе VI – сочинение, отличающееся оригинальностью, глубиной и тонкостью лишь постольку, поскольку эти качества свойственны чувствам и фантазиям простых людей. Шекспира это не удовлетворило. Какой прок быть Шекспиром, если тебе разрешается выражать лишь взгляды Автолика? Шекспиру виделся мир совсем не таким, как Автолику. Если он видел его и не вполне так, как Ибсен (да и мир ведь был не совсем тот), то, во всяком случае, постигал почти с ибсеновской силой понимания и со всем свифтовским ужасом перед его жестокостью и нечистоплотностью.
Так вот, с людьми таких дарований случается, что они вынуждены обрушивать всю мощь этих дарований на человечество, так как не могут создать популярное произведение. Возьмите, к примеру, Вагнера и Ибсена! Их ранние работы, несомненно, примитивнее поздних, и тем не менее популярными в свое время эти работы не были. Для Вагнера и Ибсена, в сущности, никогда не вставал вопрос – написать популярную вещь или нет: если бы они опустились до нее, они подобрали бы у ног людей гораздо меньше, чем им удавалось схватить поверх их голов. Но вот Гендель и Шекспир вели себя не лучшим образом. Они могли сочинить все, чего от них хотели, да еще с походом. Они поносили британскую публику и не могли простить ей того, что она пренебрегала их лучшими творениями и восторгалась их великолепными банальностями. Но они все равно продолжали сочинять свои банальности, которые получались великолепными просто за счет их животной способности к своему ремеслу.
Когда Шекспиру приходилось писать популярные пьесы, чтобы спасти театр от краха, он бунтовал, называя их «Как вам это понравится» или «Много шума из ничего». И все равно он делал свое дело так хорошо, что и по сей день эти две гениальные вульгарности остаются главным шекспировским капиталом наших театров. Позднее могущество Бербеджа и популярность Шекспира как актера дали ему возможность освободиться от тирании кассы и высказываться свободнее в пьесах, представляющих собой главным образом монолог, произносимый каким-нибудь великим актером, от которого публика готова стерпеть многое. Таким образом, история шекспировских трагедий есть история длинной цепи знаменитых актеров, от Бербеджа и Беттертона до Форбс-Робертсона. И человек, о котором рассказывают, что, «когда Бербедж произносил, что Ричард умер, и восклицал «коня! коня!», он плакал», стал отцом девяти поколений театралов-шекспировцев, толкующих про гарриковского Ричарда, киновского Отелло, ирвинговского Шейлока и Гамлета Форбса-Робертсона, знать не зная (да и не пытаясь знать), сколько в них на самом деле от шекспировского Ричарда или шекспировского Отелло. А пьесы, в которых не было больших главных ролей, а именно «Троил и Крессида», «Все хорошо, что хорошо кончается» и «Мера за меру», провалились, как и вторая часть гетевского «Фауста» или «Кесарь и галилеянин» Ибсена.
Вот где была у Шекспира настоящая обида. И хотя описывать его как человека с разбитым сердцем вопреки безудержно веселым сценам и безмятежно счастливой поэзии последних пьес – сентиментальное преувеличение, тем не менее открытие того факта, что самые серьезные из его произведений имели успех, только когда их вывозил на себе обворожительный актер (при этом безобразно переигрывающий), а серьезные пьесы, не содержавшие ролей, где было что переигрывать, оставались лежать на полке, – достаточно красноречиво объясняет, почему под конец жизни человечество и театр не рождали у Шекспира восторженного ликования. А это единственное, что мистер Харрис может привести в подкрепление своей теории разбитого сердца. Но если бы даже Шекспир и не терпел неудач, все равно человек его таланта, наблюдая политическое и нравственное поведение своих современников, не мог не прийти к выводу, что они не способны справляться с проблемами, поставленными их собственной цивилизацией. И их попытки проводить в жизнь законы и исповедовать религии, предлагаемые великими пророками и законодателями, всегда были и остаются до такой степени беспомощными, что ныне мы призываем сверхчеловека (новый, по существу, вид), чтобы он выручал человечество, спасая его от неумелого управления. Вот в чем истинное горе великих людей. Считать же, что, когда в словах великого человека слышна горечь, а на лице написана грусть, он будто бы разочарован в любви, кажется мне сентиментальной чепухой.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: