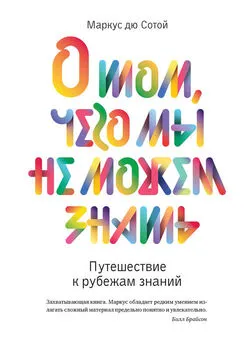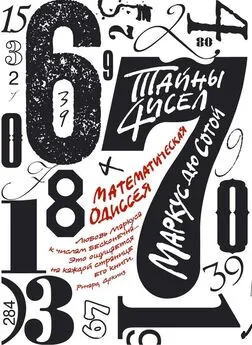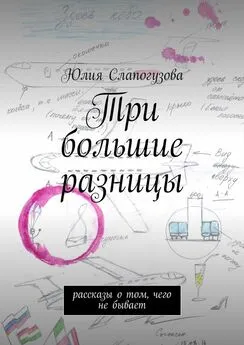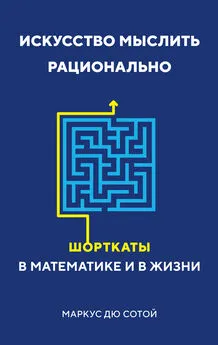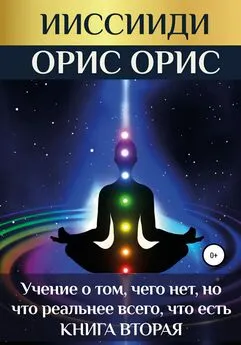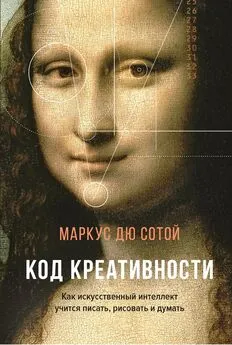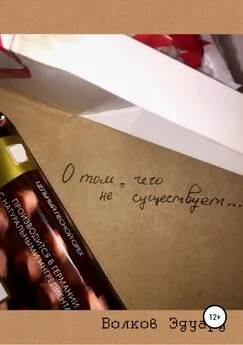Маркус дю Сотой - О том, чего мы не можем знать. Путешествие к рубежам знаний
- Название:О том, чего мы не можем знать. Путешествие к рубежам знаний
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Аттикус
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-389-12646-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Маркус дю Сотой - О том, чего мы не можем знать. Путешествие к рубежам знаний краткое содержание
О том, чего мы не можем знать. Путешествие к рубежам знаний - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Хотя я согласен с копенгагенской интерпретацией квантовой теории, я не считаю ее интеллектуально удовлетворительной. В конечном счете все сводится к тому, что кто-то говорит: “…и потом это происходит”.
Это вызвано вмешательством макроскопических средств. И все – конец разговора. Но это просто победа по определению. В этом и заключается проблема. Загадки остаются неразгаданными».
Учитывая веру Полкинхорна в то, что Бог существует и действует в нашем мире, я спросил, не думает ли он, что неизвестное такой редуцирующейся волновой функции – это то место, в котором может действовать Бог.
«Я не думаю, чтобы Бог решал, распадаться ли ядру вашего урана. Там есть какой-то механизм… нет, “механизм” – не вполне то слово… какое-то влияние, которое устанавливает порядок. Один из парадоксов квантовой теории состоит в том, что и сейчас, 80 лет спустя, мы все еще ее не понимаем».
Исследуя теорию хаоса на первом «рубеже», я прочитал, что Полкинхорн верит, что Бог может влиять на неизвестные нам знаки после запятой. Я поинтересовался, почему он считает тем неизвестным, через которое может действовать Бог, именно теорию хаоса, а не свою собственную область квантовой физики.
«Лет десять назад было такое время, когда научные и богословские сообщества бились над этими формами влияния на мир. Они, разумеется, не разрешили эту проблему – это был бы слишком амбициозный проект. Многие, особенно на Западном побережье Америки, ставили на то, что квантовая теория объяснит все. Мне такая идея казалась чересчур поверхностной. В противовес этому я, может быть, зашел слишком далеко в противоположном направлении. Я не думаю, что все решение сводится только к теории хаоса. Это лишь предположение о том, что физическая Вселенная упорядочена, но порядок ее менее жесткий, чем считал Ньютон».
Но он ни в коем случае не сбрасывает со счетов следствия квантовой физики.
«Открытие фундаментальной непредсказуемости в квантовой теории показывает нам, что мир точно не механистичен, а следовательно, и мы не являемся автоматами в некотором тривиальном и невероятном смысле этого слова».
Интересно, что агент, пытающийся диктовать ход будущего при помощи неизвестного квантовой физики, может действовать, только когда производятся измерения. До тех пор пока измерение не вызовет фазовый переход, уравнения квантовой физики полностью детерминистичны и развиваются линейным, нехаотическим образом, не оставляя никакого места для вмешательства такого агента. В этом заключается одна из причин, по которым религиозно настроенных физиков вроде Полкинхорна, пытающихся найти тот просвет, через который может действовать такой агент, не особенно привлекает неизвестное, следующее из квантовой физики.
Когда я возвращался из Кембриджа, вопрос о соотношении эпистемологии и онтологии казался мне центральным для понимания того, что квантовая физика сообщает нам о непознаваемом. Подобна ли эта ситуация тому, что происходит с игральной костью? Хотя мы не можем точно определить начальные условия броска кости, мы не сомневаемся в их существовании. Квантовая же физика ставит под вопрос саму возможность говорить о точно определенном начальном состоянии моей банки с ураном.
Господствующая сегодня в физике интерпретация утверждает, что нельзя считать, будто бы частицы внутри урана могут одновременно иметь положение и импульс. Такая интерпретация превращает эпистемологию в онтологию. То есть наша неспособность узнать их выражает истинную природу вещей. Как сказал Гейзенберг, «сами атомы или элементарные частицы не реальны; они образуют мир потенциалов и возможностей, а не вещей и фактов».
Что-то из ничего
Хотя кажется, что принцип неопределенности Гейзенберга создает неизвестное или пробел, через которые в мир может вернуться Бог, возможно, что на самом деле он заполняет другой пробел, служащий для большинства источником веры в Бога. Одно из крупнейших неизвестных сводится к вопросу: почему в мире что-то существует? Моя банка урана попала ко мне из компании Images Scientific Instruments на Статен-Айленде через интернет-магазин Amazon. Но если пойти еще дальше, пытаясь определить изначальное происхождение этого урана, мы в конце концов упремся в неизвестность. Потребность в каком-то объяснении этой неизвестности лежит в основе концепций Бога многих культур. Бог является ответом на этот вопрос. Но что это за ответ? Возможно, он просто подчеркивает веру многих в то, что мы не можем знать истинного ответа.
Мне кажется, что большинство ученых, говорящих о Боге, имеют в виду нечто, что давало бы ответ на этот, по-видимому, неразрешимый вопрос: откуда берется все? Они охотно применяют свой научный разум к исследованию того, как устроена уже существующая и работающая Вселенная. Они не ищут в мире следов божественного вмешательства. Такое мировоззрение часто называют деизмом в отличие от теизма. Такого Бога, в сущности, можно приравнять к «тому, чего мы знать не можем».
Разумеется, если попытаться описать, как может выглядеть такой ответ, сталкиваешься с проблемой бесконечной регрессии. Если предположить, что нечто ответственно за создание Вселенной, то, спрашивается, кто создал это нечто? Разумеется, такое «кто» – тоже часть проблемы, потому что мы испытываем непреодолимое стремление персонифицировать эту концепцию.
Именно поэтому многие говорят о трансцендентных определениях, о том, чего нельзя выразить, – чтобы избежать проблемы бесконечной регрессии. Они уклоняются даже от попыток выразить, каким может быть такой ответ. Просто нечто неизвестное и превосходящее наши попытки его познания. Именно таков Бог, определение которого пытался сформулировать ведущий североирландской воскресной утренней радиопередачи, с которым я вступил в спор.
В данном случае Бога определяют как нечто, что не может быть выражено. Но какую силу может иметь такая концепция? Если он не может вмешиваться, не может влиять, не может быть выражен и описан, – то зачем он нам нужен? Именно поэтому все мифотворцы вынуждены отливать своих богов в формы, которые можно выразить, узнать и зачастую персонифицировать. Слишком трансцендентный Бог теряет свое могущество и постепенно исчезает. Именно это случилось с верховными богами или небесными богами многих религий. Религиовед Карен Армстронг пишет в своей книге «Биография Бога» (The Case for God): «Он превратился в Deus otiosus [67], в “бесполезное”, или “излишнее”, божество, и постепенно исчез из сознания своего народа».
Как заявляет теолог Герберт Маккейб: «Утверждать существование Бога значит утверждать, что существуют не получившие ответа вопросы об устройстве Вселенной». Но он же предостерегает, что порок религий всегда состоит в представлении Бога не как философской идеи, а как конкретного объекта. По его мнению, проблема заключается в том, что религия слишком часто впадает в идолопоклонничество, пытаясь установить слишком личные отношения с такой концепцией Бога.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: