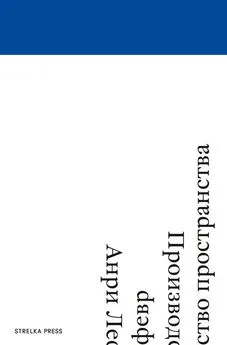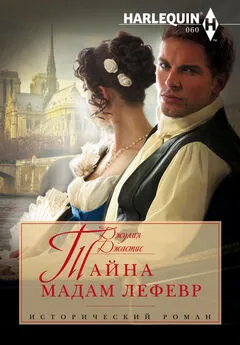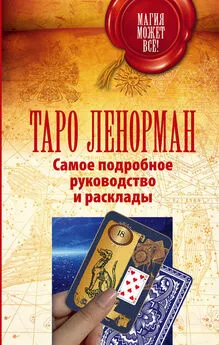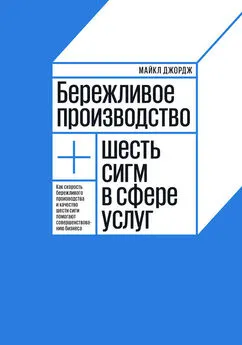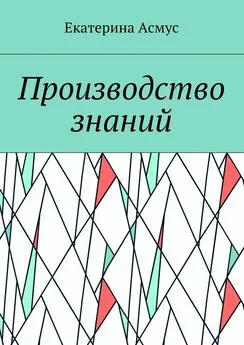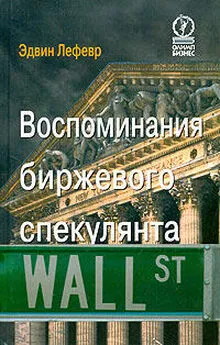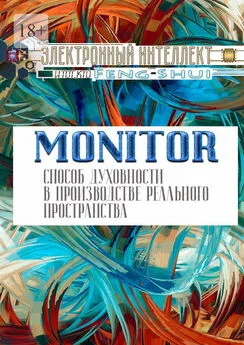Анри Лефевр - Производство пространства
- Название:Производство пространства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Стрелка пресс»f3fd0157-a4ca-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2015
- ISBN:978-5-906264-48-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анри Лефевр - Производство пространства краткое содержание
Пространство Лефевра, где ощущения, идеи, практики и физический мир соединяются в динамическом процессе постоянного возникновения и воспроизводства отношений между людьми, сообществами и институтами. Классическая работа французского философа Анри Лефевра «Производство пространства» одна из самых амбициозных попыток преодолеть извечный спор между теми, кто считает пространство абсолютной данностью физического мира, и теми, кто полагает, что оно существует лишь в сознании человека.
Производство пространства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Теперь возьмем проблему материи в самом общем смысле. Произвести некий предмет всегда означает изменить определенное сырье с применением знания, технических приемов, усилий и повторяющихся жестов (труда). Сырье прямо или косвенно происходит из материальной природы: дерево, шерсть, хлопок, шелк, камень, металл и т. д. С течением времени сырье, добытое непосредственно из природы, заменяется сырьем все более обработанным, то есть все менее «естественным». Значение технических и научных опосредующих факторов постоянно возрастает: вспомним бетон, искусственные волокна, пластмассу. Тем не менее первоначальное сырье – шерсть, хлопок, кирпич, камень и т. д. – никуда не исчезает.
Зачастую произведенный предмет несет на себе некоторые следы затраченного на него материала и времени – операций, изменивших сырье. Тогда их можно восстановить. Однако производственные операции стараются стереть свои следы, а некоторые прямо преследуют эту цель – полировка, лакировка, облицовка, штукатурка и т. п. Когда постройка закончена, леса снимают; черновики рвут, а художник знает, когда переходит от наброска к картине. Поэтому у продуктов и даже произведений есть еще одна характерная черта: они оторваны от производительного труда. Оторваны настолько, что про труд забывают, и это забвение – сокрытие, как сказал бы философ, – делает возможным товарный фетишизм: тот факт, что товар предполагает социальные отношения и влечет за собой их отрицание.
Переходить от объекта (продукта или произведения) к деятельности (производительной и/или творческой) всегда нелегко. Однако только такой подход позволяет прояснить природу объекта – или, если угодно, отношение объекта с природой – восстановить процесс его генезиса и его смысл. При любом другом подходе мы выстраиваем абстрактный объект (модель). К тому же речь идет не о том, чтобы просто уяснить структуру объекта, порождая его, но о том, чтобы породить (воспроизвести мысленно и с помощью мысли) объект целиком, его формы, структуры, функции.
Как мы (это «мы» означает любого «субъекта») воспринимаем картину, пейзаж, памятник? Разумеется, восприятие зависит от «субъекта»; крестьянин воспринимает «свой» пейзаж иначе, чем горожанин на прогулке. Возьмем образованного любителя, который смотрит на картину. Его взгляд – не взгляд профессионала и не взгляд невежды. Он движется от одного предмета, изображенного на картине, к другому; он начинает с того, что улавливает отношения между этими объектами на картине и находится в плену эффекта или эффектов, которых хотел добиться художник. Он получает от этого известное удовольствие – но только если картина относится к числу произведений, рассчитанных на получение наслаждения (для глаза, для понимания). Но этот любитель знает, что картина заключена в раму, что внутренние связи между красками и формами определяются целым. Тем самым он переходит от объектов на картине к картине как объекту, от того, что он воспринимал в живописном пространстве, к осознанию самого этого пространства. В конечном счете он предчувствует или понимает «эффекты», не все из которых были явно задуманы художником. Любитель расшифровывает картину, обнаруживает в ней нечто непредвиденное, но в формальных рамках, в отношениях и пропорциях, заданных этими рамками. Находки нашего утонченного любителя расположены на уровне (живописного) пространства . На этой стадии эстетических разысканий «субъект» ставит перед собой вопросы; он пытается разрешить проблему соотношения технически подготовленных смысловых эффектов и смысловых эффектов невольных (часть из которых зависит от него, от «наблюдателя»). Тем самым он сдвигается от пассивно воспринятых эффектов к деятельности, производящей смысл, старается обнаружить ее и попытаться (быть может, иллюзорно) совпасть с ней. Его «эстетическое» восприятие происходит на разных уровнях; это всем хорошо известно.
В этом избранном нами примере без труда можно распознать процесс развития философии, подхваченный Марксом и марксистской мыслью. Греческие мыслители (постсократики) проанализировали социальную практику познания; осмысляя знание, они составили перечень подходов применительно к известным объектам . Вершиной этих теоретических трудов является аристотелевское учение о речи (логосе) и категориях , являющихся одновременно элементами речи и оценки (классификации) объектов. Через много лет в Европе определение Логоса уточнил и утончил в своей философии Декарт. Философ задает вопросы Логосу и ставит его под вопрос: требует от него документы и звания, его дворянские грамоты, свидетельство о рождении и гражданском состоянии. Тем самым философия у Декарта смещает вопросы и ответы. Ее центр сдвигается; она переходит от «мысли-мыслимой» к «мысли-мыслящей», от объектов к акту, от речи о познанном к самому процессу познания. Это вводит в философию «проблематику» (и новые трудности).
Маркс подхватывает этот сдвиг, расширяет его и совершенствует. Для Маркса речь идет уже не только о произведениях познания, но о вещах в промышленной практике. Вслед за Гегелем и английскими экономистами он движется от результатов к производственной деятельности как таковой. Всякая реальность, данная в пространстве, определяется и объясняется генезисом во времени. Но деятельность, разворачивающаяся в (историческом) времени, порождает (производит) определенное пространство и лишь в пространстве обретает практическую «реальность», конкретное существование. У Маркса и по его мнению, эта схема, пока еще не слишком определенная, выделяется начиная с Гегеля.
Это относится и к пейзажу, памятнику, пространственному ансамблю (если только он не «подан» в природе), и к картине или совокупности произведений и продуктов. Расшифровав любой пейзаж или памятник, мы получим отсылку к определенной творческой способности и к определенному процессу означивания. Эта способность приблизительно датируется: она – исторический факт. Будет ли это дата в событийном смысле, точная дата возведения памятника или день, когда его заказало то или иное влиятельное лицо? Будет ли это дата в институциональном смысле, дата, когда, следуя некоему настоятельному запросу, та или иная общественная организация обосновалась в определенном здании – правосудие во дворце, церковь в храме? Ни то ни другое. Творческая способность – это всегда способность некоего сообщества или коллектива, группы, части деятельного класса, некоего «агента» или «актанта». Даже если заказ и спрос проистекает из разных групп, атрибуция не относится ни к конкретному индивиду, ни какой-либо единице: она всегда отсылает к социальной реальности, способной воплотиться в пространстве – произвести его с помощью имеющихся в ее распоряжении средств и ресурсов (производительных сил, технологий и знаний, средств труда и т. д.). Если перед нами пейзаж, то его сформировали крестьяне, а значит, сообщества (деревни), либо автономные, либо зависящие от определенной (политической) власти. Если перед нами памятник, то его возвела некая группа горожан, либо свободная, либо зависящая от определенной (политической) власти. Описание необходимо, но недостаточно. Его совершенно недостаточно, чтобы познать пространство, описать сельские пейзажи, затем пейзажи промышленные, затем особенности городского пространства. Главное – это переход от одного к другому. Изучение способности к производству и творческого процесса во многих случаях приводит к (политической) власти. Как действует эта власть? Выступает ли она только заказчиком? Разве она, кроме того, не «источник спроса»? Каковы ее связи с подчиненными группами, которые также создают спрос, нередко являются «заказчиками» и всегда – «участниками»? Это историческая проблема всех городов, всех памятников, всех пейзажей. Анализ данного пространства приводит к диалектическому отношению спрос – заказ и связанным с ним вопросам: «Кто? Для кого? Кем? Почему и как?» Когда диалектические (а значит, конфликтные) отношения прекращаются, когда заказ остается без спроса или спрос без заказа, тогда история пространства кончается . Вне всякого сомнения, иссякает и творческая способность. Если производство пространства еще происходит, то только по приказу власти; люди производят, а не творят, то есть воспроизводят. Но может ли спрос исчезнуть совсем? Молчание – не конец.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: