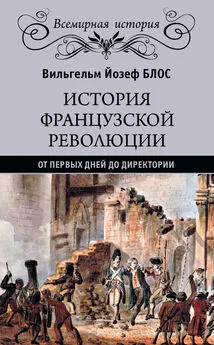Карстен Шуберт - Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции до наших дней
- Название:Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции до наших дней
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ад маргинем
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91103-280-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Карстен Шуберт - Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции до наших дней краткое содержание
Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции до наших дней - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Даже в следующем столетии, когда ситуация стала постепенно исправляться, руководство музея продолжало рассматривать его как самоцель, а не как средство удовлетворения потребностей аудитории. Прошло еще довольно много времени, прежде чем утвердилось представление о том, что музей существует для публики.
Возможно, первым музеем в современном значении стал парижский Лувр. Построенный как дворец французских королей, он со временем превратился в хранилище огромной королевской коллекции. Идея сделать Лувр публичным музеем не была рождена Французской революцией: она обсуждалась еще в последние годы Старого порядка. Этот проект внимательнейшим образом рассматривался графом д’Анживилье, главноуправляющим королевских дворцов при Людовике XVI. Были закуплены картины для заполнения пробелов в королевской коллекции, организованы консультации с архитекторами на предмет реконструкции Большой галереи, которую предполагалось сделать более удобной для публичной демонстрации картин, и проведен тщательный опрос художников с целью определить наиболее подходящую кураторскую концепцию нового музея.
В итоге героические пятнадцатилетние усилия д’Анживилье закончились ничем. Потребовался революционный катаклизм, чтобы воплотить в жизнь идею радикально нового института. Нечего и говорить, что ключевая роль д’Анживилье в закладке фундамента будущего музея революционерами признана не была, и он умер в изгнании, всеми забытый.
10 августа 1792 года монархия пала, и уже через девять дней был выпущен декрет о превращении бывшего королевского дворца в публичный музей. С самого начала тесно связанный с целями и политическим курсом Французской республики, новый музей стал символом революционных завоеваний и программной декларацией – достоянием большинства, а не меньшинства (аристократов и образованных дворян), обещавшим всем гражданам совместное владение ранее недоступными культурными ценностями. Образование и просвещение больше не были привилегией горстки избранных – они стали доступны всякому, переступившему порог бывшего королевского дворца. Прежние классовые и культурные барьеры пали. Музей не только символизировал новый порядок, но и служил важным инструментом реализации революционной программы: именно через искусство публика узнавала историю революции, ее цели и устремления.
Музей должен был играть ключевую роль в формировании и развитии нового общества. Но когда 10 августа 1793 года, в первую годовщину республики, он открылся для зрителей, ничто в нем об этом не свидетельствовало. Экспозиция имела подозрительно дореволюционный облик и напоминала, как выразился драматург Габриэль Букье, «роскошные покои сатрапов и вельмож, сладострастные будуары куртизанок, кабинеты самопровозглашенных любителей» [8] McClellan, Andrew . Inventing the Louvre. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. P. 108.
. Несколько месяцев спустя Жак-Луи Давид высказался более конкретно: «Музей – это вовсе не бесполезное собрание предметов роскоши и суетности, служащее лишь к удовлетворению любопытства. Надо, чтобы музей сделался школой большого значения» [9] Давид, Луи . Доклад в Конвенте о Хранилище Музея искусств // Речи и письма живописца Луи Давида. М.; Л.: Изогиз, 1933. С. 128.
. Судя по всему, музей и его критика шли рука об руку с самого начала.
На протяжении большей части революционного десятилетия велись яростные споры о том, каким должен быть музей, осложняемые постоянно меняющимися правилами игры. Музей испытывал финансовые сложности и страдал от недостатка площади – отчасти из-за того, что Большая галерея долгое время была закрыта на реконструкцию, в то время как коллекция росла, особенно когда в период наполеоновских походов в Париж потекли сокровища со всей Европы. Беспорядок усугубляли идеологические перемены и противоречия, раздиравшие революцию.
После учреждения в январе 1794 года Хранилища Музея искусств, были предприняты серьезные попытки привести музей в соответствие с целями революции, и картины, признанные «неподобающими», были удалены из экспозиции. Так, в хранилище отправилась бóльшая часть цикла «Жизнь Марии Медичи» Рубенса, за исключением двух полотен, на которых для верности закрасили все символы королевской власти. Но скоро стало ясно, что это не выход. Противоречие между актуальной революционной программой и реакционным содержанием ряда произведений искусства прошлого преодолевалось путем замещения религиозных или идеологических интерпретаций чисто эстетическими и историко-художественными. Этот сдвиг позволил выставлять произведения, которые ранее считались реакционными и не соответствующими строгим, чтобы не сказать педантичным, стандартам Республики. Полностью цикл, посвященный Марии Медичи, был возвращен в экспозицию (без цензурных изменений) в 1815 году.
Пока продолжались споры о методологии новой институции, в январе 1797 года Французский музей перешел в руки новой администрации и сменил название на Главный музей искусств, а в 1803 году был снова переименован – на сей раз в Музей Наполеона. Незадолго до этого, в ноябре 1802-го, Наполеон назначил нового директора музея. Им стал Доминик Виван Денон, что было довольно неожиданно: дипломат, придворный, бонвиван, порнограф и вообще мастер на все руки, Денон явно не подходил для столь ответственной должности, но его безграничный энтузиазм и неотразимое обаяние, судя по всему, произвели впечатление на императора. Это назначение совпало с поступлением в Париж несметных художественных сокровищ из Европы. В ходе наполеоновских завоеваний происходило систематическое изъятие лучших вещей из дворцовых собраний Бельгии, Италии, Австрии, Германии, а также Ватикана, так что всего за несколько лет в столице Франции фактически был собран весь постренессансный канон.
Если и были какие-то моральные сомнения по поводу массового разграбления художественного наследия других стран, вскоре они были отброшены. В 1803 году министр юстиции в письме Наполеону заметил, что «перемещение гениальных творений и их сохранение в стране Свободы будет содействовать развитию Разума и человеческого счастья» [10] Hooper-Greenhill . Op. cit. P. 174.
.
До сих пор всякий раз, когда поднимается вопрос о возвращении культурных богатств, аргумент о сохранении играет ключевую роль [11] Coombes, Annie E . Ethnography, Popular Culture, and Institutional Power: Narratives of Benin Culture in the British Museum 1897–1992 // Gwendolyn, Wright (ed.). The Formation of National Collections of Art and Archaeology. Washington DC: National Gallery of Art, 1996. P. 154.
. Так, в 1989 году директор Британского музея, сэр Дэвид Уилсон, утверждал по поводу бенинских бронз: «В своей аргументации мы исходим <���…> из чувства ответственности за культурное наследие, которое находится на нашем попечении в интересах будущего человечества…» В том же году в официальной публикации Британского музея, содержащей основные принципы его политики, требование вернуть мраморы Элгина iiiбыло высокомерно квалифицировано как «нескончаемая мыльная опера» [12] Wilson, David M . The British Museum, Purpose and Politics. London: British Museum Publications, 1989. P. 114.
. Денон, в свою очередь, оправдывал разграбление Европы заявлением о том, что «римлянам, поначалу грубым, удалось облагородить свою нацию пересадкой на ее почву всех достижений покоренной ими Греции. Так последуем их примеру и используем нашу победу, чтобы доставить <���…> во Францию все, что может способствовать развитию воображения» [13] McClellan . Op. cit. P. 148.
.
Интервал:
Закладка:


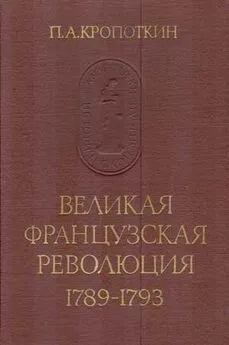
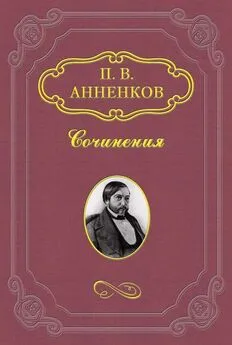


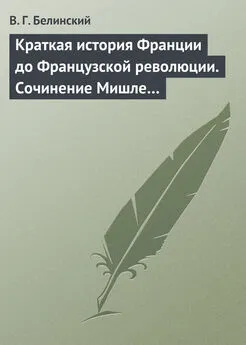
![Жорж Вигарелло - История тела Том 2 [От Великой французской революции до Первой мировой войны]](/books/1081096/zhorzh-vigarello-istoriya-tela-tom-2-ot-velikoj-fran.webp)
![Мишель Перро - История частной жизни Том 4 [От Великой французской революции до I Мировой войны]](/books/1081966/mishel-perro-istoriya-chastnoj-zhizni-tom-4-ot-velik.webp)
![Вильгельм Йозеф Блос - История французской революции. От первых дней до Директории [litres]](/books/1142539/vilgelm-jozef-blos-istoriya-francuzskoj-revolyucii.webp)