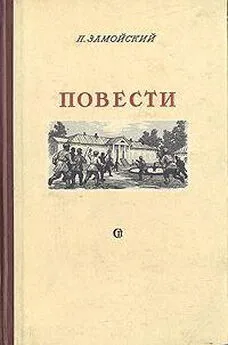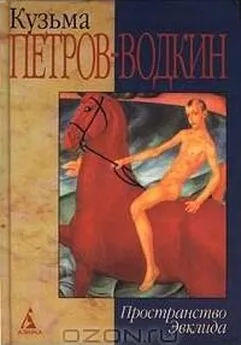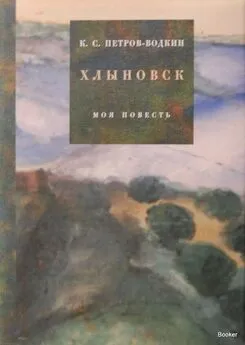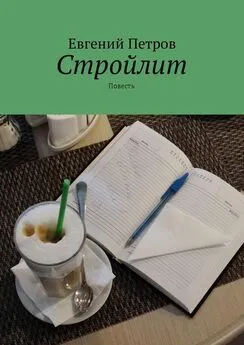Петр Замойский - Повести
- Название:Повести
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1954
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Замойский - Повести краткое содержание
В настоящее издание включено две повести П. И. Замойского (1896-1958) "Подпасок" и "Молодость", одни из самых известных произведений автора.
Время, о котором пишет автор - годы НЭПа и коллективизации.
О том, как жили люди в деревнях в это непростое время, о становлении личности героев повествуют повести П.Замойского.
Повести - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Молодость свое берет, — говорю ей. — Ну, а дальше?
— Запой был. Степка — Катьку. Прямо в избу к ней переходит. Девка‑то одна, и девка хорошая. Авдоня — Устю. Вот и хотят на скорую руку до жнитва… Тебе Устю‑то не жалко? — помолчав, спрашивает мать.
— Чего ее жалеть?
— Я так спрашиваю.
Мать умолкает и опять испытующе смотрит на меня. Потом, словно вспомнив что‑то, встает.
— Эка беспамятна я стала. Малины тебе принесли.
Быстро сходила в избу, и вот передо мной чайное блюдце со свежей, крупной, чуть дымчатой малиной.
— Первый сбор у них.
— У кого у них? — спрашиваю ее.
— А ты ешь, ешь. Молока принести?
И пока мать ходила За молоком, я вдосталь полакомился «первым сбором».
— Спасибо, мать, — говорю.
— Передам твое спасибо, — смотрит она на меня.
— Да, да. Кто же прислал малину?
Зачем‑то вновь оглядывается мать на дверь, будто боится, как бы кто не подслушал, и говорит полушепотом:
— Сколько раз спрашивала, как ты да как? Видать, хочет навестить тебя.
— Не догадываюсь, о ком говоришь.
— Ой, дурной ты, дурной! Соня–учительша, вон кто.
— Соня? — удивился я и с некоторым испугом посмотрел на мать. — А она, как… жива?
— Да ты что, с ума сошел? Жива, ежели маЛйны прислала.
И я посмотрел на блюдце. Посмотрел, и краска бросилась в лицо. Знакомое блюдце: разрисовано клеточками и чуть–чуть выщерблен край. Из этого блюдца не один раз пил я чай, когда зимой — ох, давно это было! — заходил к Соне.
— Спасибо передай ей, — говорю матери.
— Она прийти порывается, да все чего‑то вроде боится.
— Не надо… Скажи, как‑нибудь после…
Бросив на меня взгляд, полный жалости, мать уходит.
И опять один я в мазанке. Опять эти думы. Они измучили меня. В который раз упрекаю себя, что ушел. Ушел, не повидавшись с Леной. Сестра‑то ее просто дура! А с дурой и надо было говорить, как с дурой. И нечего ее бояться. Снова перебираю все в памяти, восстанавливаю разговор, вижу лица, движения. И как огромное преступление — вынутая мною из кармана рука. Но она ли причина? Нет, конечно. Рука — только лишний повод Федоре. Почему я сам не обозвал ее дурой? Она стоила того. Попадись теперь, когда мне все равно, потряс бы я ее! И поганого рта не успела бы открыть эта богачка. Чего захотела! «Какое у тебя богатство?»
— Видать, одного вы поля ягодки с Гагарой. Все вы, богачи, сволочи! — так, скрипя зубами и чуть не ударяя в стену кулаком, озлобленно шептал я.
Был зол и на Арину, и на Костю. Они‑то что? Неужели все семейство находится в руках Федоры? Почему такая у нее власть? Вздох матери, леденящие, кровь ее слова: «Ну, ин… погодим». Одну сноху вспоминаю с благодарностью.
И опять сон, сон. Так и клонит ко сну. И страшные, мучительные сновиденья, порой кошмары. Во всех снах она. Где‑то далеко на горе она, вижу ее, уходящую все дальше и дальше, и глухо кричу: «Лена, верни–ись!»
Мать приходит в мазанку с братишкой. Семка стоит. у двери и боится подойти ко мне. Такой у него печальный взор. Я зову его, у меня несколько яблок. Правда, они не совсем еще поспели, но ему‑то по зубам. Я отдаю их ему, глажу белокурые, мягкие, как лен, волосы, а братишка с удовольствием грызет яблоки. Вдруг ни с того ни с сего заявляет:
— Братка, вставай. Скоро поедем рожь косить.
Мать смеется, кивает мне на него.
— Ишь, работник нашелся. Пояски крутить будешь?
— Буду, только за браткой, — говорит Семка.
— Братка хворый, — отвечает мать.
— Ну да, хворый… Встанет и пойдет косить.
— Ай, дурной ты! Как же он будет?..
— Мама… — перебиваю я.
Она спохватывается, сердится сама на себя и отсылает Семку на улицу.
И когда он убегает, мать, как обычно, оглянувшись на дверь, строго и ласково произносит:
— Сынок, захворал‑то ты неспроста.
— Простудился, шел ночью.
— И не ври. Ты думаешь, не вижу? Обманешь мать? Нет, сынок, много я видела, много сердцем пережила. Вот что, Петя, не таись перед матерью. И чтоб мне не думалось, и тебе не мучилось, говори.
— Не знаю, что тебе говорить, — отвечаю ей ослабевшим голосом, радуясь, что наконец‑то она завела этот разговор.
— Сама, что ль, отказала? — просто спросила мать.
И я, сдерживая охватившее меня волнение, задыхаясь, отвечаю:
— Старшая сестра.
— Зачем же ты… сам?
— Я и не хотел. Они начали.
— Кто, мать, что ль?
— Слушай…
С горечью, с болью, временами плача, как малый ребенок, все поведал матери. Она выслушала, не прерывая, но я видел, как трудно ей было удержать себя, от слез. Она хорошо знала мой характер, знала — трудно выбить из меня слезы. Этих слез даже в детстве у меня мало видела, сейчас вот видит — и как бы окаменела. А я ничего не утаил от нее, ни одной царапины в сердце не пощадил. И теперь ждал ее слова, ее суда. Она — мать.
Мать долго молчала. Я лежал, запрокинув голову, и смотрел в крышу. Зачем‑то приходил отец, что‑то искал, но, не найдя, понюхал табаку и, глянув на меня, вышел.
— Петя, — вздохнула мать, и я очнулся. Глухим голосом строго сказала: — Береги себя. Будет время, лучше в сто раз найдешь. Сам найдешь. А теперь забудь и не думай.
— Но я ее, мама, люблю.
— Время покажет, сынок.
— Нет, лучше ее я, мама, не найду.
— Встань, Петя, в поле сходи, на люди, проветрись.
— Я людей‑то напугаю. Принеси‑ка зеркало…
Как меня действительно перевернуло! Едва узнаю себя. Страшный. Только глаза блестят. А скулы выдались еще больше. И сердитые складки легли на лоб. Нет, не люблю я смотреть на себя в зеркало.
В своей избе я чувствую себя, словно в чужой. Никак не привыкну, что и у нас, как у людей. Больше всего меня поражает пол. Это же диковина — все доски не только целы, но лежат, плотно, новые, оструганные. Еще вот большой новый стол и светлые окна на улицу — настоящие, со створчатыми рамами. И я хожу по избе с таким чувством, будто мне кто‑то вдруг подарил ее. А вон две кровати — тоже настоящие, из тесаных досок, со спинками.
Кто не знает, что такое новая изба после грязной и мрачной развалины, где и пол худой, и стены гнилые, где в окнах свету не видать, — тот не поймет радости нашей. А сколько было бы еще радости, если бы… Нет, не надо думать об этом…
В эти дни заходили ко мне Филя, Павел и Гришка–матрос. Наступала пора уборки хлебов. Были взяты на учет все лошади, какие имелись в селе и в имении, все жнейки. И словно на фронте, мы долго просиживали над картами своих и барских полей; решали: тот, кто может сам косить, пусть косит, а всем одиноким, солдаткам и вдовам надо скосить жнейками, связать и убрать.
Мы засиживались до полуночи, прикидывая, решая и перерешая, и, наконец, окончательно надумали убирать «помочью». Пусть вдовы и солдатки, чьи загоны граничат, помогают друг другу не разбиваясь. Но легко учесть лошадей и жнейки, а как их взять? Разве пойдут добром на это богатеи? А там еще возка, молотьба… Но кто же, кроме комитета, будет заботиться о вдовах и солдатках, об инвалидах и бедных, лишенных основной рабочей силы семьях? Гришка–матрос сказал:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: