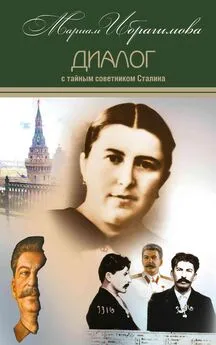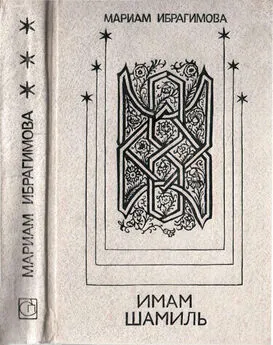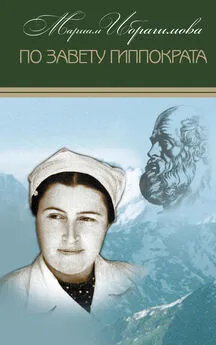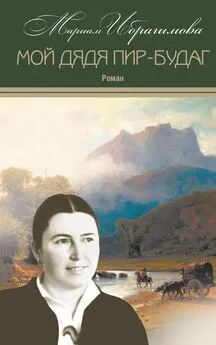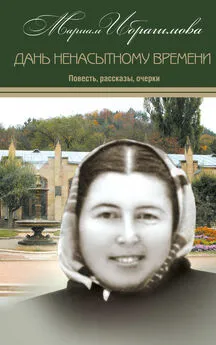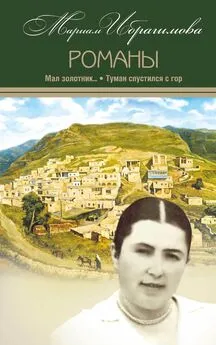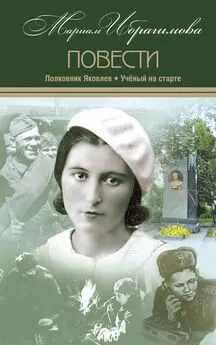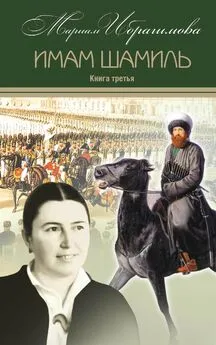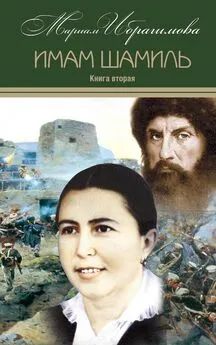Мариам Ибрагимова - Тебе, мой сын. Роман-завещание
- Название:Тебе, мой сын. Роман-завещание
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- Город:М.
- ISBN:978-5-906727-11-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мариам Ибрагимова - Тебе, мой сын. Роман-завещание краткое содержание
Тебе, мой сын. Роман-завещание - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Маллачилау знал, что нуцал имеет привычку каждое утро выходить на балкон и обводить взглядом свои владения. Так и сделал один из вызвавшихся на тот поступок храбрецов. В то утро деспот в последний раз увидел восход солнца. Деспотизмом и жестокостью отличались не только аварские нуцалы, но и заносчивые ханы Казикумуха. Недобрую память о себе оставил в народе лакский Аглар-хан.
Когда наместник на Кавказе Ермолов притеснил мусульманское духовенство, запретив паломничество в Мекку и Медину, горцы заволновались и стали объединяться на борьбу с русскими войсками. Один из казикумухских ханов, потерпев поражение, вынужден был пойти на перемирие и в знак покорности отдать в аманаты русским своего сына Аглара. Живя и обучаясь в Петербурге, юноша не только приобщился к передовой культуре русского народа, но и вобрал в себя все пороки городской цивилизации, начиная с лицемерия, лжи, честолюбия, тщеславия, пьянства и разврата. Вместе с преданностью царскому престолу он в чине русского генерала принёс с собой в Дагестан убеждённость в преимуществе абсолютной власти и силе внушённого жестокими мерами страха.
Казикумухским ханством правил старший брат Аглара – Абдурахман-хан. Он так же, как и хунзахский нуцал, после отстранения Ермолова от должности главнокомандующего войсками на Кавказе вновь перешёл на сторону русского царя, гарантировавшего сохранность его имущества, прав, привилегий и действующих адатов.
В лице появившихся духовных предводителей горцев – трёх имамов, строго придерживающихся законов шариата, – местные владыки, привыкшие к безраздельному правлению по принципу «кого хочу – милую, кого хочу – казню», усмотрели своих губителей и стали верной опорой самодержавию в его политике на Кавказе. Генерал Аглар считал себя более достойным места правителя Казикумухского ханства.
Старшего брата Абдурахман-хана, к которому не питал никаких родственных чувств, он считал дикарём, воспитанным на традициях «туземных» предков. В свою очередь Абдурахман-хан не разделял взгляды Аглара на жизнь, осуждал его склонность к пьянству и ночным оргиям с дворовой прислугой.
Когда Аглар получил приказ из Темир-Хан-Шуры от генерала Аргутинского о необходимости срочно выступить с лакским ополчением против имама Шамиля, вторгшегося со своим отрядом в Аварию, в пределы Чоха, Абдурахман-хан посоветовал брату не проявлять особого рвения против единоверных войск имама. Об этом Аглар немедленно донёс командованию. Абдурахман-хана схватили и под конвоем доставили в Тифлис, где осудили за измену и сослали в Сибирь. Правителем лакцев стал Аглар-хан. В военных действиях он почти не принимал участия, охраняя в основном неприкосновенность границ ханства. Сытая жизнь в безделье и пьянстве всё больше склоняла безнравственного правителя к разврату и жестокости в отношении тех, кто пытался добрым советом наставить его на путь истинный.
Аглар-хан приказывал выкалывать глаза тем, кто, на его взгляд, видит то, что не следует видеть; отрезать уши тем, кто слышит то, что не следует слышать; вырывать языки и зашивать рты тем, кто говорит то, о чем не следует говорить. Не ограничиваясь множеством жён, он продиктовал подвластным свою волю на право первой ночи с бракосочетающейся. И прославленные когда-то свободолюбием и гордостью казикумухские уздени смирились с произволом Аглара. Один лишь «выживший из ума» старец заметил проходящему мимо хану:
– Наша жизнь подобна льющейся реке, чистые воды которой могут помутнеть и выплеснуться под воздействием сил паводков, ворочающих валуны.
Но до мятежа дело не дошло. Аглару просто подсыпали яд в вино. Он был без сознания, но не умирал. Мулла, призванный читать «ясин» (заупокойную молитву), забеспокоился, что к хану вернётся сознание.
Те, кто хотел избавить народ от изверга, быстро обмотали его в саван и похоронили. Тайна этого тяжкого греха просочилась позднее в народ, который окутал её легендой о том, как служители культа, обязанные три дня и три ночи читать Коран над могилой хана, услышали собачий лай, доносившийся из-под земли.
Когда разрыли могилу, в ужасе отпрянули, увидев покойника, который «проглотил почти весь свой саван». Тогда, мол, было решено отсечь ему голову и положить у ног, ибо, если бы Аглар съел свой саван до конца, он бы воскрес и превратился в людоеда, который начал бы пожирать народ.
Легковерные соотечественники, верующие старики до сих пор не сомневаются в содеянном. Дорвавшийся до власти деспот Аглар был отравлен так же, как отравил он в своё время прославленного мужеством, справедливостью и добротой предводителя балкарского ополчения Довды. Почитаемый лакцами Довды – защитник соплеменников и помощник акушинцев – вёл себя гордо и независимо даже при общении с самим Агларом. Хоть и не из ханского рода происходил Довды, но в его лице Аглар увидел опасного соперника, за которым мог пойти народ, как пошёл за простым узденем – имамом Шамилем.
Коварный Аглар пригласил Довды в гости, встретил с почестями, усадил на пышные подушки, расстелил перед ним шёлковую скатерть, поставил на неё серебряный поднос с отварным ягнёнком и велел красавице Зазе поднести почётному гостю ковш с хмельной брагой, в который заранее подсыпал яду В пути, при возвращении в родной аул Балкар, гордый Довды, лучший наездник, стрелок, храбрец и предводитель балкарцев, скончался. Но сохранилась добрая слава о нём в печальной песне, сложенной народом.
Горянки
Теперь мне хочется остановиться на положении женщин в горах. Насколько мне помнится и насколько я понимаю, никакого униженного, угнетённого положения не было. Утверждённые в семьях патриархальные устои, по крайней мере у нас в горах, нисколько не принижали роль слабого пола. Просто горянки знали своё место в семье и почтительно относились к старикам. Более того, седая, почтенная женщина могла разрешить спор, погасить гнев, предотвратить схватку мужчин, сняв с головы платок и бросив его под ноги дерущихся противников. И, наконец, наши девушки могли без согласия приглянувшегося джигита-избранника прийти в его дом и заявить о своем желании стать женой избранного ею молодца, даже если у последнего была наречённая. В таких случаях красавицу могли вернуть в родительский дом, отказав ей в желании, если она была из рода, не пользовавшегося уважением среди сельчан. А если она была из почтенной, состоятельной семьи, её оставляли, но за тем, кого она полюбила и к кому пришла по собственной воле, сохранялось право взять в жёны другую – по любви или по расчёту.
Вспоминается судьба жены моего родного дяди Мудуна. Когда он после переезда в Темир-Хан-Шуру приехал в аул на побывку, то, молодой, приятной внешности, он сразу понравился Айше, дочери крупного владельца скота Абдул-Керима. У Мудуна уже была засватанная невеста. Но когда под покровом ночи Айша с узелком своих вещей в руках явилась в дом родителей Мудуна, её не отослали обратно. Тут же разнеслась по аулу весть – Айша по собственной воле сбежала из отцовского дома к избраннику. На этом, без всяких калымов и свадеб, дело и кончилось. Прожила Айша с Мудуном до конца его дней в любви и согласии.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: