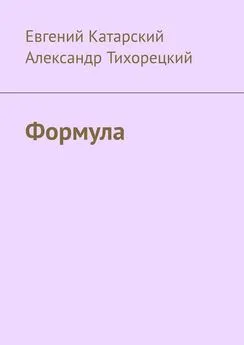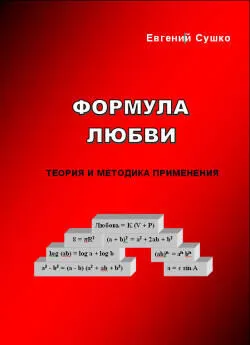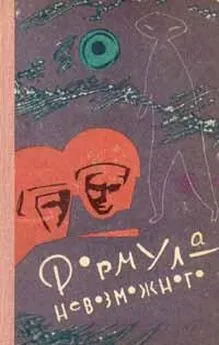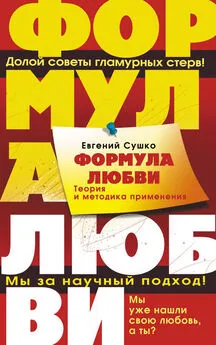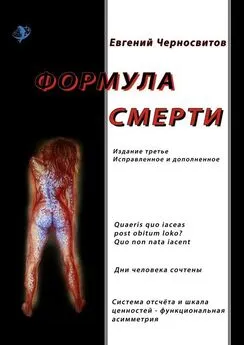Евгений Катарский - Формула
- Название:Формула
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449646057
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Катарский - Формула краткое содержание
Формула - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
— Ничего, любимый, все будет хорошо.
Это же Катя, его Катя! Значит, все-таки, доехали? А где же Мамаев? Коля? Боль тихо таяла, пятясь в прозрачную пустоту, и Бельский открыл глаза.
— Катя… —перед лицом появились глаза, огромные, вишневые, встревоженные; рука нащупала маленькую, крепкую ладонь.
— Я здесь, милый. Видишь, ты уже и заговорил. Все теперь будет хорошо…
— Катя…
— Что, Сережа? Говори, что ты хочешь? —огромные, влажные вишни тонко подрагивают под ресницами, на гладкий лоб легла морщина. Переживает. Бедная, бедная… Надо бы успокоить ее, пожалеть. Но как? Губы совсем перестали слушаться. Так много слов произнесено ими за жизнь, что сейчас они просто отказываются повиноваться. Неужели все? Нет, нет, черт возьми! Не расклеиваться! Что там у него за ранение? Это же не пятнадцатый век, в самом деле! Сейчас приедет врач и сделает что-нибудь. Укол, перевязку, операцию, в конце концов.
А как хорошо начинался этот день! Малиновый рассвет на полнеба, шальная, восторженно-юношеская бодрость, необыкновенное, пронзительное предчувствие счастья… Бледнеют проемы окон, смутный полумрак тает по углам крохотной комнатенки, краски зари ложатся на лицо спящей рядом девушки. Он видит ее локоны на подушке, ровную полоску зубов под чуть приоткрывшимися губами, он даже может расслышать ее дыхание. Это Катя. «Моя последняя удача, последний луч моей зари»… К черту иронию! Ведь он счастлив! Он должен быть счастлив! Любой на его месте был бы счастлив! И в самом деле! он вновь полон жизнью, той свежей, утренней силой, что способна подарить иллюзию молодости, хоть ненадолго вернуть ощущение простоты и ясности, легкости и поправимости. Так чего ж иронизировать? Впрочем, самоуничижение —наилюбимейшее занятие интеллигенции, видимо, даже на смертном одре. Снова! Какой, к черту, одр! —а ну-ка обратно! назад, в утро! Вот так, вот так —будто бы заново —те минуты, снова хочется петь, веселиться, шутить и смеяться, дарить радость, любовь…
Вот они пьют чай с Катей, Бельский подтрунивает над ее заспанным видом, то и дело пытается обнять, а она, смущенная, застенчивая, бросает на него испуганные, из-под ресниц взгляды.
— Ну, ты что? Совсем как ребенок, —она говорит важно, словно учитель ученику, и это еще больше веселит Бельского. Он притягивает ее к себе, целует в лицо, шею, укутанную толстым, колючим платком, и она, зардевшись, торопливо шепчет:
— Нет, ну, в самом деле! Ведь войдет сейчас кто-нибудь…
И вся она, солнечная, румяная, теплая, с темно-русой косой, уложенной в тяжелый венок на затылке, светится от счастья. Все это так неправдоподобно прекрасно, что не может быть правдой, явью, —Бельский чувствует, понимает это, и тут же оскорбленная, обожженная иллюзия гибнет; словно соскальзывая с невзятой высоты, он вновь возвращается в реальность. Здесь глаза Кати потускнели, голос прыгает, ломается, дрожит.
— Ну, что ты, миленький? Еще больно? Ты не переживай… Степан Петрович на телефоне, скорая вот-вот приедет…
Степан Петрович? Кто это? Это что же, так Мамаева зовут? А он и забыл совсем. Вот шляпа! Забыть имя командира! Какой же после этого он боец? Мысли снова возвращаются к случившемуся, но память, словно испугавшись, пятится назад, оттаскивая от роковой черты. Что ж, наверно, это правильно. Лучше пропустить, забыть, отрешиться. Лучше что-нибудь другое, мирное. Ага, вот так. Нащупать лазейку мимо боли, мимо зловещих кружев тревоги и страха. Еще одно усилие, еще один шажок —и вот уже опять утро, опять солнечный свет, и в комнату входит все тот же Мамаев, хмурый, замкнутый, сосредоточенный, с вечной печатью значительности и недовольства на лице, —в точности, как и положено начальству. И пусть война эта —не совсем война, и он —не совсем офицер, и Бельский —не совсем солдат, не может он позволить себе снова быть простым и доступным. Не имеет права. Никогда ему уже вернуться обратно, не стать парнем с рабочей окраины —таким, каким он был всего несколько месяцев назад. Трудягой, главой семейства, обремененным кучей забот, немного плутоватым, разбитным и не дураком выпить. Теперь все это забыто, поросло быльем, теперь все это —в прошлом. Сгинули, растворились в густом вареве времени прежние привычки, и уже никогда не растянутся его губы в лукавой ухмылке, и уже не хлопнешь его дружески по плечу, как бывало. Сейчас он —командир отделения, суровый и справедливый, умелый и грозный, и позывной у него соответствующий —«Мамай», и на плече у него автомат, а на поясе —«Стечкин» и граната.
Иногда Бельскому кажется, что вся эта дисциплина, субординация —неуклюжая экстраполяция детства, продолжение игры в войну, только мальчишки уже выросли, игрушечные пистолеты и автоматы сменились настоящими, а правила игры стали жестче, суровее. Теперь убитые не воскресают где-нибудь в сторонке, вызывая праведное возмущение противной стороны, теперь их хоронят, —будто прячут, отправляют куда-то далеко, в непонятные, обезличенные места, откуда они больше не возвращаются. И эти похороны, и все, что следует за ними —криз горя, мораторий на воспоминания, —будто часть ритуала-постановки, роли, сыгранные правдиво и натурально. Но все равно не верится в реальность происходящего, кажется, погибшие живы, вот-вот появятся, он вновь увидит их лица, услышит их голоса. И все мысли, рожденные этой новой, отрешенно-иллюзорной реальностью, слоятся, складываются в несмелую и неловкую надежду, во что-то наподобие бессознательного заигрывания с рассудком, балансирования на грани здравого смысла и фантазии. Вся жизнь, все слова и поступки представляются лишь долгим спектаклем, чем-то вроде вынужденного, затянувшегося кастинга; обстоятельства раздают людям их роли, и люди вживаются, играют, стараются. И чем лучше и искуснее они это делают, тем больше у них шансов быть успешными, заслужить любовь и уважение окружающих; в этой парадигме соответствие чужим ожиданиям и представлениям —кратчайший путь к гармонии с внешним миром.
И он, и Мамаев —не исключение, каждый получил и исполняет свою роль. Один —строгого начальника, второй —подчиненного; и они оба знают об этом, и все вокруг —тоже знают, и тоже играют и подыгрывают, и ничего здесь уже не поделаешь, —однажды приняв правила, мы уже не в силах отказаться, изменить что-либо.
И война внесла коррективы в эту конструкцию, выправила и отредактировала, подправила-подчистила; близость смерти наложила отпечаток, напрочь содрав шелуху лжи, максимально приблизив к психологической достоверности, —что-то вроде военно-полевой школы актерского мастерства, системы Станиславского. Здесь жили и умирали, любили и ненавидели, хвалили и проклинали, и все —по-настоящему, искренно, без ужимок и гримас; вся игра, любое притворство сводилось к легкой ретуши грубоватого равнодушия, к незатейливым формам нравственного камуфляжа —от хмурой и молчаливой суровости до разбитного, бедового веселья. И Бельский пронзительно, остро чувствовал свою чужеродность, несоответствие всему этому миру. Подчиненный, но чересчур раскован, вызывающе легкомыслен, заносчиво общителен; мастит и респектабелен, но нарочито беспечен, неуклюже циничен, искательно фамильярен. Все это, конечно же, камня на камне не оставляло от имиджа стареющего денди, этакого умудренного жизнью светского льва, сигнализировало о неуверенности в себе, о фальши и лицемерии. Как следствие —приговор, прочитанный им в глазах новоявленных соратников: еще один офисный Рэмбо, столичная штучка в поисках порции адреналина. Вслед за этим —вполне предсказуемые конвульсии самолюбия, злость, раздражение, даже презрение: да кто они такие, эти люди?! почему он должен прислушиваться, угождать, подстраиваться, пресмыкаться?! Но рябь недовольства быстро угасала, злость и раздражение выдыхались, оставляя за собой усталость и пустоту, душевную распутицу, новые всплески рефлексии: он – трус, слюнтяй, интеллигентная мразь и сволочь, такие как он умеют только предавать, отступать, сдаваться…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: