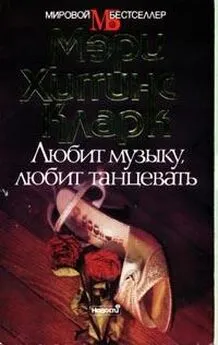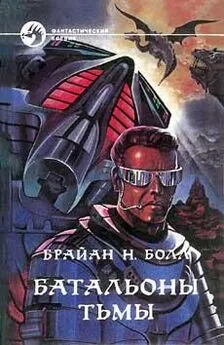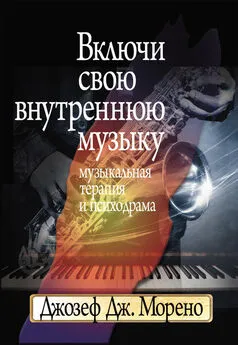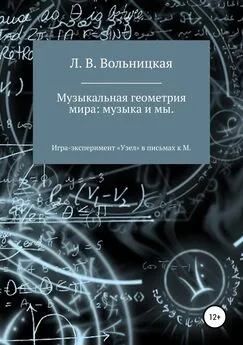Филип Болл - Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку
- Название:Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент 5 редакция
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-113519-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Филип Болл - Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку краткое содержание
Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Если бы потребовалось выбрать тональные ряды наугад, то с большой вероятностью обнаружились бы такие небольшие группы (хотя и менее выраженные), которые создают мимолетное чувство тональности. Некоторые композиторы атональной музыки, в том числе Стравинский и сам Шёнберг (в поздних произведениях), пользовались сериями, которые создают мимолетное чувство тональности. Но Дэвид Хьюрон изучил статистику тоновых рядов Шёнберга и выяснил, что в среднем в них меньше локальных групп нот, которые могли бы намекать на тональность, чем в бессистемной выборке. Другими словами, Шёнберг выбирал ряды, которые с наибольшей эффективностью подавляли тональность. По этой причине Хьюрон полагает правильным называть серийные композиции не «атональными», а «контртональными»: они не игнорируют тональность, а изо всех сил пытаются вытравить ее. Возникает ощущение, что Шёнберг мог делать это бессознательно, – нет никаких признаков того, что он был уверен в необходимости прореживать тоновые ряды для достижения данной конкретной цели. [33] Шёнберг и Алан Берг умело обращались с тоновыми рядами и могли гениально воспроизвести «тоновые» эффекты, например, каденцию (см. стр. 181). Берг даже смог воссоздать вступление к прелюдии из «Тристана и Изольды» в своей «Лирической сюите» и частично хорал Баха из «Концерта для скрипки». Очень экстравагантная затея для композиторов, которые все положили на искоренение тональности, учитывая, насколько это сложно. Но школе Шёнберга совершенно необходимо было доказать связь между двенадцатитоновой музыкой и ранней (особенно немецкой) традицией: новая техника таким образом могла заслужить уважение и быть принятой как развитие и продолжение прежнего уклада. По большому счету Шёнберг был не революционером, а убежденным традиционалистом.

Рис. 4.23 Серия тонов, которая распадается на две тональности, – до мажор и пентатонику фа-диез.
На самом ли деле в двенадцатитоновой «мелодии» отстутствует схема, делающая эту музыку понятной? Наиболее явный кандидат на место организационного принципа – сам тоновый ряд. Возможно, через отрицание повторов он сам диктует новую структуру?
Но тоновый ряд – это просто расположение нот в определенном порядке, а логика истинной мелодии заключается в том, как и почему одна нота следует за другой, то есть в отношении того, что уже было, и того, что последует. Это специфическое развитие, как в языке или в кино: без него они были бы просто перемещающимися словами и картинками. Я не хочу сказать, что эти качества придают мелодии «приятный напев» (он может даже не быть нужным), но при его наличии она будет когнитивно познаваема.
Но все же: смогли бы мы привыкнуть к тоновому ряду, если бы слышали его снова и снова? По всей видимости, нет. Во-первых, двенадцати нот многовато для того, Чтобы человеческий мозг смог легко запомнить их последовательность; Это похоже на попытку запомнить последовательность из двенадцати случайных цифр. Как только ряд преобразуется одним из допустимых Шёнбергом способов, то он изменится до неузнаваемости (попробуйте теперь перечислить ту же последовательность чисел в обратном порядке). В 1951 году Шёнберг с большим оптимизмом проводил аналогию со зрением: «Как наш ум всегда узнает, например, нож, бутылку или часы – вне зависимости от их расположения, – писал он, – таким же образом ум творца музыки может оперировать воображением в любой возможной позиции, вне зависимости от направления, как зеркало может показывать взаимные отношения, которые сохраняют определенное значение». По словам Дианы Дойч, предположения Шёнберга о «субъективно воспринимаемом эквиваленте при транспонировании, ретрогрессии, инверсии и перемещении октавы являются фундаментальными для формирования теории двенадцатитоновой композиции».
Но результаты тестов говорят, что измененные таким способом ряды редко распознают как эквивалентные, даже если за дело берутся эксперты в области двенадцатитоновой музыки. Мы не усваиваем мелодии способом, который бы позволял это делать. Различные трансформации могут менять мелодический контур, дающий опору нашей способности их опознавать. Одно дело – знать, что первая последовательность нот является инверсией второй, а другое дело – это услышать.
На самом деле, неизвестно, желал ли Шёнберг, чтобы слушатели слышали пермутации тонового ряда, или те выступали в качестве композиционного принципа, способа создания строительных блоков для составления музыки. В приведенной выше цитате он говорит только об «уме творца музыки», а не слушателя. Тоновый ряд не был такой же музыкальной идеей, как музыкальные атомы. [34] Сам Шёнберг на этот счет точно ничего не говорит. Он считает, что «при условии продуманного использования мотив (тоновый ряд) предполагает единство, связность, логику, доступность для понимания и легкость». Но даже эти слова не указывают, кто будет испытывать данный опыт, аудитория или композитор.
Теоретик музыки Аллен Форт заявил, что сериалистская музыка организована в соответствии с так называемыми звуковысотными классовыми группами, то есть малочисленными группами нот (точнее будет сказать, звуковысотных классов, кроме октавы), которые повторяются в кластерах либо одновременно (в аккордах), либо последовательно (в мелодии). Подобно самому тоновому ряду, эти группы трансформируются в композиции в соответствии с различными симметрическими операциями (инверсия, циклические пермутации). Проблема этого довольно математического анализа заключается в том, что он сосредоточен только на музыкальной партитуре и не принимает во внимание, воспринимают ли слушатели эти группы; а признаков этого нет. Если вы посмотрите на то, как некоторые из групп вытянуты из прочного основания музыкальной структуры, то вас это не удивит (Рис. 4.24). Даже если теория звукорядных классовых групп проясняет формальную структуру атональной музыки, она очевидно ничего не говорит о том, как эта музыка воспринимается на слух, – то есть ничего о музыке как таковой.
Возможно, это нас не слишком удивляет. По своей природе сериализм не особенно интересуется тем, что слышит аудитория, а его метод расположения нот в определенном порядке напоминает игру в шарики. Лучшей демонстрацией этого наблюдения может послужить композиция Пьера Булеза «Le Marteau sans Maître» (1954). В ней сюрреалистические стихи Рене Шара раскладываются на альтовый вокал и шесть инструментов, в том числе гитару и вибрафон. Премьера произведения прошла удачно, но все же загадала слушателям загадку: Булез утверждал, что композиция сериалистическая, но никто не могу понять, почему. Разгадка не находилась вплоть до 1977 года, когда теоретик Лев Кобляков вычислил нетрадиционный серийный процесс, которым пользовался Булез. Другими словами, двадцать лет никто мог разгадать, а тем более услышать организационную «структуру» этого шедевра. Это не значит, что «Le Marteau» невозможно слушать: необычные созвучия композиции по-своему увлекают. Они демонстрируют, что в данном случае для продуманной организации тонов места нет (и, как многие скажут, для ритма тоже). Никто не может обвинить аудиторию в том, что она улавливает незначительные остатки музыкальности в этой композиции.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: