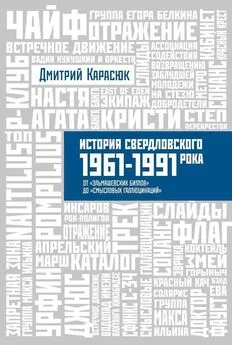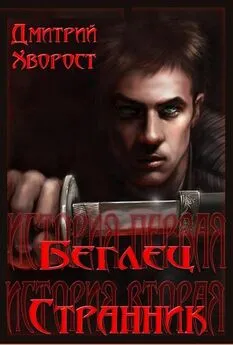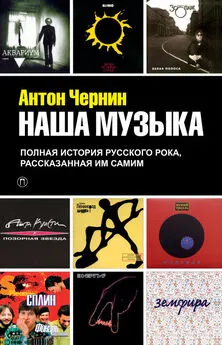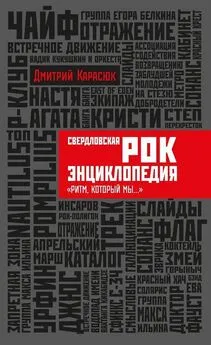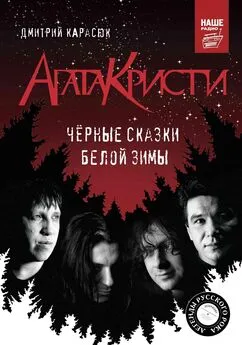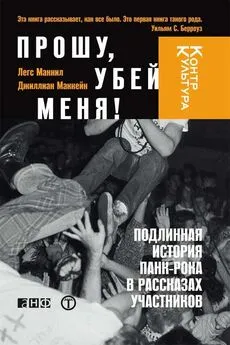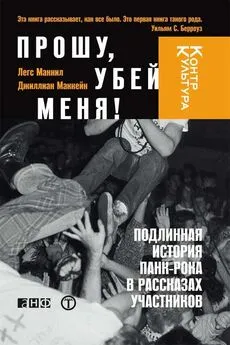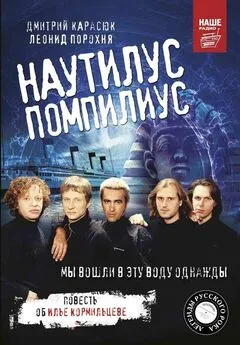Дмитрий Карасюк - История свердловского рока 1961-1991 От «Эльмашевских Битлов» до «Смысловых галлюцинаций»
- Название:История свердловского рока 1961-1991 От «Эльмашевских Битлов» до «Смысловых галлюцинаций»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Кабинетный ученый
- Год:2016
- Город:Екатеринбург
- ISBN:978-5-7525-3093-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Карасюк - История свердловского рока 1961-1991 От «Эльмашевских Битлов» до «Смысловых галлюцинаций» краткое содержание
мощное течение, Гольфстрим, самостоятельно пробивший себе дорогу к любви
и признанию многомиллионной аудитории. В этой книге, написанной в жанре
«опыт исторического исследования», идет речь о людях, больше всего на свете
желавших делать рок-н-ролл или что-то полезное для него. Книга охватывает
период 1961–1991 гг. — время становления и расцвета свердловского рока.
История свердловского рока 1961-1991 От «Эльмашевских Битлов» до «Смысловых галлюцинаций» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но некоторые эффекты во всем их великолепии повторить на концерте просто нельзя. В своих записях «трековцы» активно использовали весь университетский корпус. Многоэтажный лестничный пролет они превратили в естественную эхо-камеру. В песне «Кто ты есть…?» в строчке «Пора открывать тебя!» хотелось усилить эхом последний слог. Мощные колонки вытащили на лестничную клетку и направили их вниз в пролет. Включив микрофон, Полковник во всю мощь подал в динамики этот самый слог «БЯ!». Получившийся аудиоэффект по достоинству оценили не только будущие слушатели «Трека-II», но и пара студенток, куривших на лестнице тремя этажами ниже. Громогласное «БЯ!», раздавшееся в пустом здании буквально с небес, запомнилось им надолго. Зато звукорежиссер остался доволен.
За два года плотной работы со звуком Полковник полностью оправдал свои виртуальные погоны с тремя звездочками. При жестком минимуме технических средств для адекватного осуществления задумок музыкантов звукорежиссеру надо было вжиться в группу, стать с ней единой семьей. И Полковник стал абсолютно полноправным участником «Трека», чье слово было не менее весомо, чем мнение Перова или Скрипкаря. Звуки, которые доносились из динамика при прослушивании уже готового альбома, рождались не только под клавишами Андрея Балашова или струнами Михаила Перова, но и под паяльником, и ручками пульта Полковника. «На физтехе учили умению находить техническое решение для любой поставленной задачи. Надо было записать музыку. И вот на ощупь, методом тыка с огромным количеством попыток мы эту задачу решали».
Уже почти хрестоматийной стала работа Полковника с обыкновенным пианино фабрики «Красный Октябрь». Он подошел к нему как инженер. Задняя стенка была расчерчена мелом на пронумерованные квадраты. В них по очереди крепились два микрофона, и Андрей Балашов монотонно нажимал все клавиши — от низких до высоких. Потом микрофоны передвигались на следующий квадрат, и все повторялось снова. После этой нудной процедуры путем прослушивания определялся квадрат, где звучание наиболее сбалансировано. «У нас перед глазами, вернее, перед ушами были лучшие образцы западной рок-музыки. Я прекрасно понимал, что у «Pink Floyd» или «1 °CС» совсем другие инструменты и совсем другая аппаратура. Но я старался подручными средствами добиться максимально приближенного уровня звучания».
Примерно так же экспериментировали с гитарами, с барабанами. Иногда перфекционизм Полковника даже где-то утомлял «трековцев». Музыкантам хотелось скорее сыграть, скорее услышать результаты того, что уже звучало у них в голове, а тут опять Полковник возится со своими занудными экспериментами. Но их результат был столь впечатляющ, что оправдывал казавшееся затраченным впустую время. Любые мало-мальски отрицательные эмоции исчезали, как только нажималась кнопка «запись». «Это были самые лучшие моменты нашей тогдашней жизни. Учеба, работа, семья — все меркло перед сладкими моментами совместного активного творчества. То, что получалось, нравилось нам, а значит, понравится и другим. Все работали на полную отдачу». Творить могли круглосуточно, но по ночам старались ничего не записывать. Даже то, что фиксировали поздно вечером, после утреннего прослушивания часто приходилось переделывать. Не удивительно: звукорежиссеру трудно работать больше четырех часов (притупляется профессиональный слух), а «трековцы» иногда фигачили и по двенадцать часов.
И «Кожа», и все альбомы «Трека» писались в монозвучании. Монофоническим был магнитофон «Тембр-2М», усовершенствованный Полковником для работы в студии. Помимо прочего усовершенствование заключалось в тумблере для переключения дорожек магнитофонной ленты, установленном сбоку. Чтобы не портить элегантный дизайн советской аппаратуры, тумблер был спрятан в блестящую консервную банку. Смотрелось очень импозантно. Инструменты и вокал фиксировались отдельно, каждый на свою дорожку. Затем эти дорожки попарно «накладывались» друг на друга путем перезаписи с магнитофона на магнитофон. Назывался этот трудоемкий метод «наложением». Моно давало возможность уменьшить количество перезаписей, при которых качество неизбежно терялось. Кроме того, большинство слушателей стереоаппаратуры еще не имели. А те, у кого она была, часто пользовались ею в монорежиме для экономии дефицитной пленки.
Постоянную нехватку техники испытывали не только слушатели «Трека», но и сами музыканты. Многое приходилось делать своими руками. Покупались какие-то датчики для измерения давление звука, на заводе вытачивались алюминиевые корпуса, вручную наматывались трансформаторы, и получался такой тонкий прибор, как микрофон. Замечательные стойки для него мастерили из титановых лыжных палок и бильярдных шаров.
Преображалась и комната студенческого клуба университета, где репетировал «Трек». Ее надо было максимально звукоизолировать, но любые специальные материалы были в то время недоступны. Голь на выдумки хитра — отличными шумопоглощающими панелями оказались обыкновенные магазинные картонки из-под яиц. Правда, они, как и почти все остальное в то время, были дефицитом. За этими «яйцеклетками» (как их называли музыканты) устраивались настоящие экспедиции. Пока кто-то один распивал со сторожем склада бутылочку, остальные тырили картонки. Обитая «яйцеклетками» студия приобрела где-то даже профессиональный вид, а репетиции больше не мешали учебному процессу.
В библиотеке имени Белинского Полковник перерыл все в поисках материалов по акустике. Нашлось менее десятка книг, из их содержимого пригодилось всего процента два. Но что-то для себя он извлек. В результате получился ревербератор — прибор для создания эффекта эха. Схем никаких не было. Полковник знал только общий принцип работы этого устройства: больше всего оно напоминает раскладушку, где вместо брезента натянут тонкий лист металла, на который подается звук и который этот звук задерживает. Все это надо было создать самому. Знакомый в учебно-производственном комбинате УПИ помог сварить раму из уголков. Другой знакомый за две бутылки водки вынес с Верх-Исетского завода лист тонкой трансформаторной стали размером два на полтора метра. От самых настоящих раскладушек надергали обыкновенных пружин и растянули металлический лист на раме. Из наушников изготовили датчики, которые подавали звук на лист. Другие датчики этот звук снимали. В зависимости от их расположения на листе звук был разный, конкретное место определялось опытным путем. Лучше всего получавшийся неестественно объемным и несколько металлическим звук слышен на некоторых песнях альбома «Вскрытие» группы «Кабинет», который Полковник записывал в 1986 году. Массивная акустическая диковинка осталась в клубе горного техникума, когда «Кабинет» съезжал оттуда. Скорее всего, она закончила свой земной путь в груде металлолома.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: