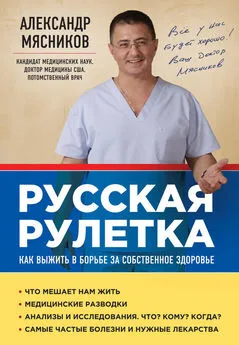Александр Флоря - Русская стилистика - 1 (Фонетика, Графика, Орфография, Пунктуация)
- Название:Русская стилистика - 1 (Фонетика, Графика, Орфография, Пунктуация)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Флоря - Русская стилистика - 1 (Фонетика, Графика, Орфография, Пунктуация) краткое содержание
Русская стилистика - 1 (Фонетика, Графика, Орфография, Пунктуация) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Каково губам
Произнесть: сдаюсь!
Какофония как раз и показывает, каково губам это "произнесть". Звуковой затор из антаффрикат (в отличие аффрикаты, антаффриката состоит из щелевого и взрывного) не только передает, что человек не в силах выговорить роковое слово. Перерастание мягкой глухой антаффрикаты [С'Т'] в твердую звонкую [ЗД] иллюстрирует укрепление человека в "священной ярости" (или в том, что Цветаева, пишущая о белогвардейцах, считает священной яростью). Человек терпит поражение, но не сдается.
У А.А. Ахматовой в "Поэме без героя" к лирической героине под Новый Год являются призраки, чему она нимало не удивляется:
Ясно все:
Не ко мне - так к кому же?
И тотчас же, обнаружив режущее слух сочетание трех к, весьма неубедительно пытается выдать это за прием: "Три к выражают замешательство автора". Здесь Ахматова противоречит сама себе: то все ясно, то замешательство. В таких случаях поэты обычно исправляют неудачную строку, а не придумывают оправдания. Видимо, Ахматовой нужен именно этот оборот, и она по какой-то причине стремится его сохранить. Осмелимся предположить, что она здесь обыгрывает девиз Жанны д'Арк "Если не я, то кто же?". В таком случае Ахматова самой грамматической системой была обречена свести вместе эти три к. Впрочем, полной уверенности в том, что такое намерение было, у нас нет.
Фонетические солецизмы. Понятие о графоне
Активнейшим средством речевой характеристики литературных персонажей являются солецизмы - разнообразные неправильности, в том числе фонетические. Это слово происходит от имени одного из семи мудрецов афинского правителя Солона. Свергнутый своим родственником Писистратом, он некоторое время скитался.
Покинув Креза, он явился в Киликию, основал там город и назвал его по своему имени "Солы"; там он поселил и тех немногих афинян, речь которых с течением времени испортилась и стала называться "солецизмом".
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых мужей.
В тексте солецизмы оформляются графонами, т.е. записями с элементом транскрипции. Они передают индивидуальные особенности говорящего (см.: Кухаренко 1988: 18) или его речи в данный момент. Графонами фиксируются явления и факторы трех основных видов: физиологические (заикание и др. дефекты речи), социальные (акцент, произношение, мотивированное уровнем образованности, происхождением и общественным статусом человека) и психологические (особенности детской речи, искажения, возникающие под влиянием эмоций; сюда же, видимо, следует отнести примеры, приводимые Б.Л. Успенским в "Поэтике композиции": отражение или неотражение на письме особенностей речи героя в зависимости от позиции повествователя - если, напр., Л.Н. Толстой смотрит на происходящее в "Войне и мире" глазами Денисова или Наполеона, то картавость первого и французская речь второго не передаются, т.к. сами герои не ощущают это как свои речевые особенности; если же повествователь занимает по отношению к ним внешнюю позицию, то и детали их речи воспроизводятся). Есть и другие причины употребления и неупотребления графонов (об этом см.: Успенский 2000: 82-90).
Своеобразно используются графоны, обозначающие безграмотность говорящих, в романе Т.Н. Толстой "Кысь": МОГОЗИН, МЁТ, ОСФАЛЬТ, есть и "духовные" понятия: МОЗЕЙ, ШАДЕВРЫ, МАРАЛЬ и др., причем писательница остроумно обыгрывает их: "Ты меня пальцем тронуть не смеешь. У меня ОНЕВЕРСТЕЦКОЕ АБРАЗАВАНИЕ!" или:
- Вы что это, Никита Иваныч?
- МЁТ ем.
- Какой МЁТ?
- А вот что пчелы собирают.
- Да вы в уме ли?
- А ты попробуй. А то жрете мышей да червей, а потом удивляетесь, что столько мутантов развелось.
Действие романа происходит после катастрофы ("Взрыва"). Уцелевшие люди учатся жить заново, и Толстая с видимым удовольствием придумывает новый мир, обживаемый ими. Искаженные слова, обозначаемые сплошными прописными, это приметы "старого" мира, жизненного уклада - основательно, хотя и не до конца, забытого. Это, конечно, и знак одичания людей.
Искажение слова может свидетельствовать о сильнейшем потрясении героя, когда вокруг него рушится мир. Таково знаменитое толстовское пелестрадал в устах оскорбленного Алексея Александровича Каренина. Анна назвала его "машиной", даже "злой машиной", и эта обмолвка показывает, что машина "сломалась". Но здесь есть еще один важный оттенок. Замена /р/ на /л/ превращает привычный Каренину "высокий штиль" в беспомощный "детский лепет". Это именно те фонемы, которыми дифференцируются детскость и взрослость. Каренин, который был во всех смыслах "человеком слова", как бы разучивается говорить и впадает в детство, в детскую беззащитность. Так что Анна предала и бросила не одного ребенка, а двоих.
У Л.Н. Толстого есть еще одна такая - воистину гениальная - обмолвка, связанная с подлинной "пограничной ситуацией". В "Смерти Ивана Ильича" описываются агония и умирание главного героя:
Все три дня, в продолжение которых для него не было времени, он барахтался в том черном мешке, в который просовывала его невидимая непреодолимая сила (...) Он чувствовал, что мученье его и в том, что он всовывается в эту черную дыру, и еще больше в том, что он не может пролезть в нее. Пролезть же ему мешает признание того, что жизнь его была хорошая (...) В это самое время Иван Ильич провалился, увидал свет, и ему открылось, что жизнь его была не то, но что это можно еще поправить (...)
"Да, я мучаю их, - подумал он. - Им жалко, но им лучше будет, когда я умру". Он хотел сказать это, но не в силах был выговорить. "Впрочем, зачем же говорить, надо сделать", - подумал он. Он указал жене взглядом на сына и сказал:
- Уведи... жалко... и тебя... - Он хотел сказать еще "прости", но сказал "пропусти", и, не в силах уже будучи поправиться, махнул рукою, зная, что поймет тот, кому надо.
Итак, вся предыдущая жизнь героя была "не то", и свой единственный достойный поступок он совершил непосредственно перед смертью - перед лицом смерти - попросил прощения. Толстой применяет здесь замечательный прием: первым правильным делом героя становится его последнее "неправильное" слово. В этом слове есть еще один парадокс: у героя нет сил даже на короткое слово ("не в силах уже будучи поправиться", т.е. сказать: "прости"), поэтому он произносит длинное: это последняя вспышка жизни в человеке, после которой он угасает безвозвратно. Искажение слова именно за счет удлинения, а не чего-нибудь другого, предельно точно мотивируется ситуацией - именно тем, что силы героя на исходе. Он не может их тратить на лишние слова, его речь уплотняется, нагружается смыслом сверх меры. В одном слове совмещаются два - и, соответственно, два значения (причем это последнее слово динамично: одна из его составляющих, еще не завершившись, на наших глазах превращается в другую - незавершенное прости перерастает в пропусти). На символическом уровне повествования эта двойственная лексема оказывается перформативом, т.е. и словом, и действием одновременно. Оно двуфокусно, ориентировано сразу на два мира, на две реальности. Это просьба о прощении, обращенная к близким, и одновременно - пропуск в иной мир.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

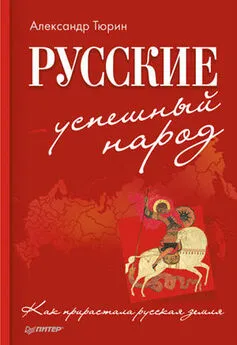
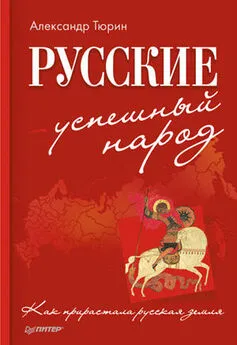


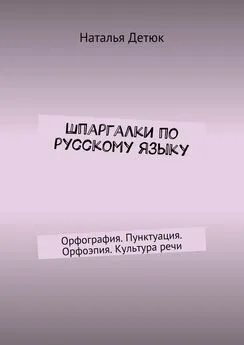
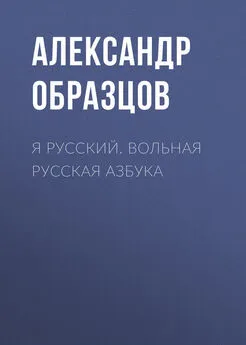
![Александр Богданов - Русская фантастика – 2019. Том 1 [сборник litres]](/books/1084721/aleksandr-bogdanov-russkaya-fantastika-2019-tom.webp)