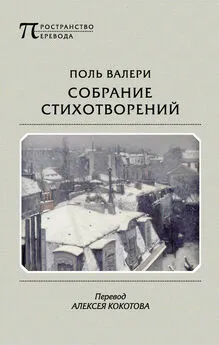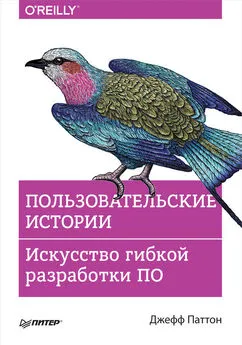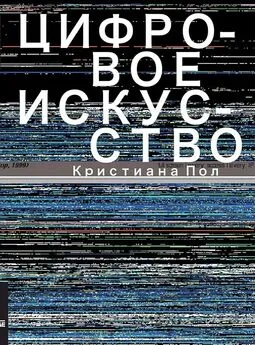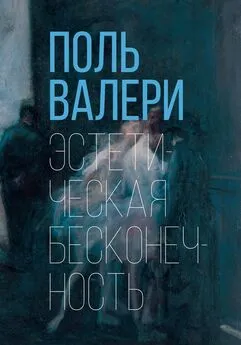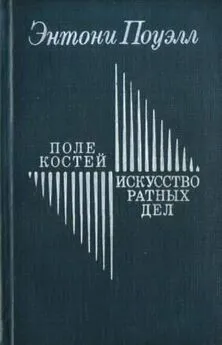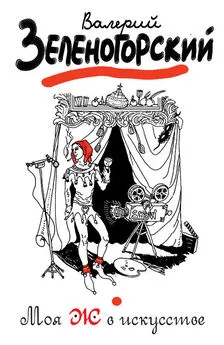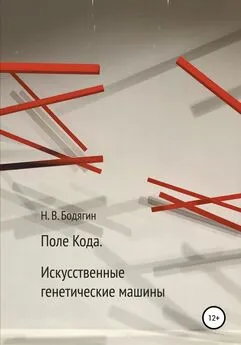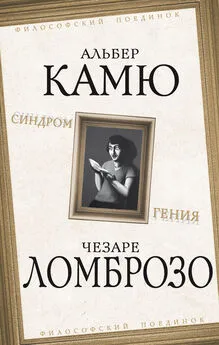Поль Валери - Об искусстве
- Название:Об искусстве
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Поль Валери - Об искусстве краткое содержание
Об искусстве - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Чего же добиваемся мы, как не создания мощного и на какое‑то время устойчивого впечатления, что между воспринимаемой формой речи и ее обменным мысленным эквивалентом существуют некое мистическое единство и некая гармония, благодаря которым мы приобщаемся к миру, совершенно отличному от того, где слова и действия связаны соответствием? Как мир чистых звуков, столь различимых на слух, был выделен из мира шумов, дабы в противоположность ему составить законченную систему Музыки, так поэтическое сознание стремится действовать в отношении языка: оно не теряет надежды отобрать в этом детище практики и статистики редкостные элементы, из которых сможет строить произведения, чарующие и внятные с первой до последней строки.
Это значит требовать чуда. Мы прекрасно знаем, что связь наших идей с сочетаниями звуков, поочередно их вызывающих, почти всегда произвольна или же чисто случайна. Но поскольку нам удается время от времени пронаблюдать, оценить или вызвать ряд особо красивых эффектов, мы тешим себя мыслью, что сумеем однажды создать цельное, без изъянов и пятен, произведение, построив его на благоприятных возможностях и счастливых случайностях. Сотня волшебных моментов, однако, еще не образует стиха, этой длительности нарастания и своего рода фигуры во времени; напротив, естественный поэтический факт — лишь исключительное событие в хаосе образов и звуков, достигающих нашего сознания. Следовательно, если мы хотим создать произведение, которое выглядело бы в итоге только как серия таких счастливых, удачно нанизанных случайностей, мы должны вложить в наше искусство много терпения, воли и изобретательности; если же мы притязаем еще и на то, чтобы стихотворение наше не только покоряло чувства очарованием ритмов, тембров и образов, но также поддерживало и утоляло вопрошания мысли, мы вовлекаемся в безрассуднейшую игру.
Малларме, уже на исходе юности мучимый необычайно ясным сознанием всех этих противоречивых обусловленностей и устремлений, не переставал ощущать также предельную трудность слияния в своей работе идеи, какую он создал себе об абсолютной поэзии, с неизменным изяществом и строгостью исполнения. Каждый раз ему противостояли либо его дарования, либо его мысль. Он расточал себя на то, чтобы сочетать длительность и мгновение: таково терзание всякого художника, глубоко мыслящего о своем искусстве.
Следовательно, создать он мог лишь совсем немного; но достаточно было вкусить этого немногого, чтобы отравить себе вкус ко всякой иной поэзии.
Помнится, как в девятнадцать лет я стал вдруг почти равнодушен к Гюго и Бодлеру, когда волею случая на глаза мне попались несколько фрагментов «Иродиады», «Цветы» и «Лебедь». Я открывал наконец безусловную красоту, которой бессознательно дожидался. Все здесь покоилось на одной чарующей силе языка.
Я отправился подальше к морю, держа в руке драгоценнейшие списки, которые только что получил; и не замечал ни солнца во всей его мощи, ни ослепительной дороги, ни лазури, ни дыхания жгучих трав, — так потрясли меня эти бесподобные стихи и так, до самых глубин существа, они меня захватили.
Временами этот поэт, наименее безыскусный из всех, необычным, до странности певучим и словно бы завораживающим сближением слов — мелодическим совершенством стиха и его особенной полнотой — вызывал представление о самом могущественном в изначальной поэзии: магической формуле. Через строжайший анализ своего искусства он, должно быть, пришел к некой теории и какому‑то синтезу заклинания.
Очень долго считалось, что некоторые словосочетания могут нести в себе больше силы, нежели очевидного смысла; пониматься вещами лучше, нежели людьми; горами и реками, животными и богами, тайными сокровищами, стихиями и источниками жизни — лучше, нежели мыслящей душой; быть доступней Духам, чем нашему духу. Сама смерть отступала порой перед ритмическими заклятиями, и могила выпускала призрака. Нет ничего более древнего, ни, кстати сказать, более естественного, нежели эта вера во власть, присущую слову, которое, как полагали, воздействовало не столько своей обменной ценностью, сколько вследствие некоего резонанса, вызываемого, по-видимому, в природе вещей 1.
Действенность «чар» зависела не столько от смысла используемых слов, сколько от их звучания и необычностей их формы. Темнота была даже чем‑то почти решающим в них.
То, что люди поют или изрекают в самые торжественные и в самые роковые минуты жизни; то, что звучит во время литургии; то, что шепчут и стонут в порывах страсти; то, что утешает ребенка и несчастного; то, что свидетельствует о правдивости клятвы, — все это слова, которые невозможно выразить в четких понятиях, ни оторвать от определенного тона и строя, не делая их тем самым бессмысленными либо тщетными. Во всех этих случаях акцент и звучание голоса важнее их смысловой внятности: они взывают скорее к нашей жизни, нежели к нашему рассудку. — Я хочу сказать, что слова эти в гораздо большей мере понуждают нас изменяться, нежели побуждают понимать.
Никто из современников не отважился, подобно этому поэту, так четко отделить действенность слова от его понятности. Никто не различал столь сознательно два эффекта речевого высказывания: передать факт — вызвать переживание. Поэзия есть компромисс, или определенная пропорция двух этих функций… 2.
Никто не дерзнул выразить тайну сущего через тайну языка.
Как не признать, что человек есть источник, начало загадок, если всякий предмет, всякая жизнь и минута непроницаемы, если наше существование, наши побуждения и чувства абсолютно необъяснимы, а все нами видимое обращается в тайну, едва наш разум нисходит на землю и сменяет ответы на вопрошания?
Можно, конечно, с этим не соглашаться, полагая, что единственное назначение языка заключается в передаче другому того, что ясно тебе самому; эта позиция означает, что как в себе самих, так и в прочих мы приемлем лишь то, что дается нам без усилий. Однако невозможно отрицать: во-первых, что неравноценность умственных способностей вносит значительную неопределенность в суждения о ясности; далее, что наряду с темнотами, вызванными беспомощностью говорящего, есть и иные, обусловленные самим предметом речи, поскольку природа не поручилась являть нам лишь то, что может быть выражено простыми языковыми формами; и, наконец, что ни верования, ни чувства не обходятся без «иррациональных» речений. Добавлю, что совершенная передача мыслей — химера и что стремление полностью растворить высказывание в понятиях приводит к полному разрушению его формы. Следует выбирать: либо мы сводим язык к функции передатчика некой системы сиг-палов, либо должны примириться с тем, что находятся люди, которые, опираясь на физические свойства речи, изощряют его наличные эффекты, его формальные и мелодические комбинации так, что подчас дивят и даже какое‑то время озадачивают умы. Никто никого не обязан читать.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: